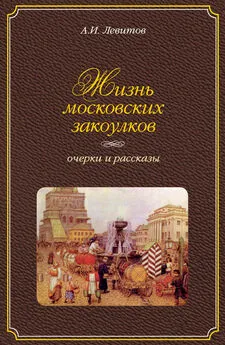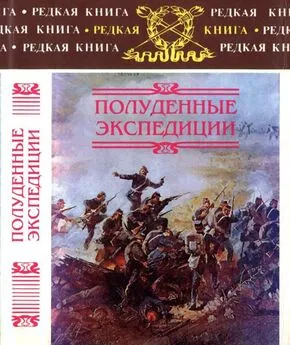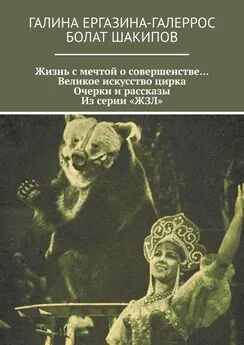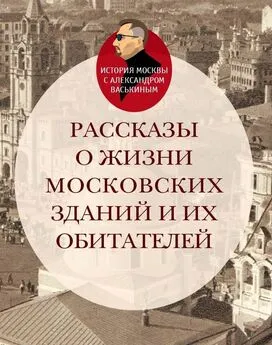Александр Левитов - Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы
- Название:Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Индрик»4ee36d11-0909-11e5-8e0d-0025905a0812
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91674-251-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Левитов - Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы краткое содержание
Автор книги – Александр Иванович Левитов (1835–1877), известный беллетрист и бытописатель Москвы второй половины XIX в. Вниманию читателя представлено переиздание сборника различных зарисовок, касающихся нравов и традиций москвичей того времени. Московская жизнь показана изнутри, на основе личных переживаний Левитова; многие рассказы носят автобиографический характер.
Новое издание снабжено современным предисловием и комментариями. Книга богато иллюстрирована редкими фотографиями из частных архивов и коллекций М. В. Золотарева и Е. Н. Савиновой; репродукциями с литографий, гравюр и рисунков из коллекции Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские» и фонда Государственной публичной исторической библиотеки России. Книга представляет интерес для всех, кому небезразлично прошлое российской столицы и судьбы ее простых жителей.
Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Толпа ребятишек, неутомимо сновавшая и горланившая по подвалу, как и все подвальное, была в свою очередь такой же, какой я оставил ее, хотя приметил, что теперь она стала гораздо гуще, а следовательно, и неугомоннее; но и это обстоятельство нисколько не изменяло кумова апартамента, потому что башмачник Фаламей не обделял никого из девчонок и мальчишек, составлявших молодое поколение подвала, когда задавал им трепака и колупал масло, отчего молодое поколение носило на своих головенках одинаково чесавшиеся больнушки, от которых, следственно, ревело точно так же и в настоящем случае, как ревело за год перед этим, ни на полтона даже не повышая и не понижая своих голосов.
Да, все обстояло в подвале по-прежнему, потому что очень трудно такой жизни построиться на какой-нибудь другой лад по той простой причине, что подо всем этим прекрасным небом нельзя найти лада, который был бы сколько-нибудь хуже этого. И Господи! до того шло там все по-старому, что сам я, как и прежде, обманул ожидания ребячьей стаи, облепившей меня, потому что был вне всякой возможности дать что-нибудь на гостинцы этой малолетней, вечно голодающей, братии.
Уныло и молчаливо отошла от меня, как говорят поэты, розовая юность, а я, как и всегда, что особенно люблю, стал прислушиваться к стенам подвала, которые на сей раз говорили мне так:
– Ну что, Иван Петрович? Что, кум ты мой золотой? Куда ходил? Что выходил? Э-эх ты, ветер степной, Иван Петрович! Право, ветер! Вот тебе от нас первый привет. Думали мы, что ты, гуляючи по хорошему Божьему свету, хоть чуточку поумнеешь, хоть немножко посократишься, а он все такой же… Что задумался-то? Глаза-то что на нас так пристально выпучил? Нечего на нас пучить глаз, потому узоры на нас все те же…

Уличная торговля на 2-й Тверской-Ямской улице. Фотография конца XIX в. Частный архив
Шептали мне черные стены эти слова с какой-то особенно выразительной насмешкой, словно бы насмешкой этой они меня хотели образумить и наставить на какой-то, совершенно неизвестный мне, истинный путь.
Так я помню в старину, когда я был еще совсем малым ребенком, старая бабка моя, смотря на разные мои, как она говорила, дурацкие выходки, укоризненно и насмешливо покачивала своей седой головой и язвила меня острыми стрелами разных народных пословиц, вроде, примерно, следующей: – «Эх, дитя! не будет в тебе путя…»
До слез, бывало, пронимали меня эти многозначительные бабкины слова. Открывши в шепоте стен кумова подвала нечто схожее с ними, я бы тоже, вероятно, заплакал и теперь, ежели бы давно уже разлившаяся по телу моему злобная желчь не вытеснила из меня все без остатка мои горячие, искренние слезы.
IV
– Вот за это я тебя, куп, страсть как не люблю! – этим восклицанием вывел меня из моей задумчивости старик кум (назовем его давнишним именем, приобретенным им в полку, где его прозвали Обгорелый). – Так вот за это я тебя недолюбливаю, – повторил Обгорелый, – выпьешь ты, дружок, малость какую-нибудь и сейчас же задумаешься, лицо у тебя в синие пятна ударит и словно бы ты в такие времена разорвать кого на мелкие части надумываешь. Право! Это мне очень не по нраву. Выпей-ка, авось, может, поотпустит тебя злоба-то твоя.
– Что же это я все у тебя оглядел, увидал, что все на прежних местах стоит, – сказал я, – а про Катю не спрошу: где она у тебя?
– Помалчивай до поры до времени, – с какой-то плутоватой улыбкой ответил мне кум. – Мы тут такую-то крутую кашу завариваем и как есть, братец ты мой, к самой каше ты подоспел. Вот счастливый какой, а еще все судьбой своей недоволен!
А Катя, про которую я сейчас осведомлялся у солдата, была существом такого рода: во всех вообще девственных улицах существует обыкновение распускать про всякого человека, вновь основавшего свой притон в их тишине, молву, что будто у этого человека страсть сколько деньжищев и добрища всякого, вряд ли на три подводы уложишь. Конечно, этому, по-видимому, странному обыкновению удивляться много не следует, потому что страсть поврать про чужие деньжища и добрище свойственна всей гольтяпе {229}вообще. По этому случаю, лишь только переехал солдат в свой подвал, как сейчас же про него вся улица как в трубу затрубила:
– Одних шинелей у него три, – по секрету перешептывались между собой соседские бабенки, – сапогов четыре пары, голенищев старых видимо-невидимо навалено. Кому копит – а? Скажи, пожалуйста, кому копит старый идол? – даже с некоторым негодованием вопрошала одна из бабенок. – Околеет ведь старый шут, – глаз некому будет закрыть.
– Ты про шинели-то да про голенищи не толкуй лучше!
– вступалась другая, – а ты вот что послушай: видели у него бумажек денежных вона сколько!.. – и при этом бабенка, припрыгнувши, чтобы быть порослее, взмахнула рукой над своей головой, желая означить тем, сколько именно у идола-солдатища было денежных бумажек. – Теперича, – продолжала она, – видели у него также целый сундук с образами и все-то они – батюшки мои – в серебряных ризах у него разодеты, все-то в серебряных…
На основании этих рассказов одна согрешившая девочка некоторой темной ночью взяла да и подкинула свою новорожденную дочку к богачу-солдату.
– Она у него счастлива будет! – рассуждала молодая мать.
– А то, поди-ка, из Воспитательного дома кому еще на руки попадется…
– Вона сокровище какое Господь мне, старому шуту, послал! – сказал кум, вывертывая ребенка из разных лохмотьев. – То тридцать лет с ружьем нянчился, теперь же вот с чужой дитей придется понянчиться, а там уж верно судьба за прялку меня усадит… Поворчал, поворчал Обгорелый таким образом, а все-таки послушной нянькой уселся наконец за детскую колыбель и своими песнями, петыми хотя и на волчиный манер, выбаюкал себе такую прелестную девочку, про которую многочисленные жильцы говорили, что об ней, все равно как об царевне какой, ни в сказке нельзя сказать, ни пером написать.
Я совершенно не знаю, каким образом и для чего именно на тощей и так гибельно воняющей почве подвалов родятся существа с головками улыбающимися и цветущими, как улыбаются и цветут на холсте прелестные создания великих художников, – не понимаю, для чего даются этим существам белокурые волосы, – кого в том подвале хотела природа удовлетворить, творя этот гибкий, как наша стройная отечественная сосна, стан; но знаю и сказываю о том обстоятельстве, что ундер-офицерский подкидыш, прозванный горем подвальным царевной, про которую нельзя ни в сказке сказать, ни пером написать, – был, есть и будет царевной моего одинокого сердца…

Торговка маслом. С рисунка Ж. Барбье из книги М. И. Пыляева «Старая Москва» Государственная публичная историческая библиотека России
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: