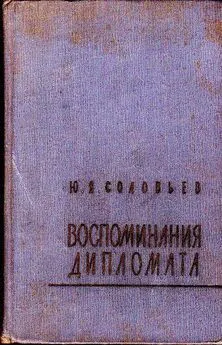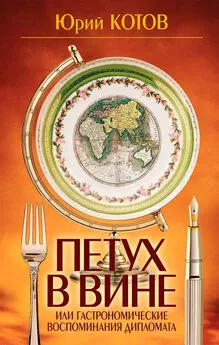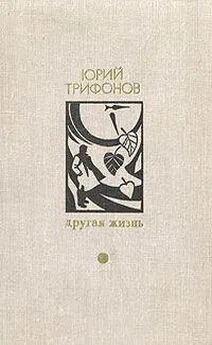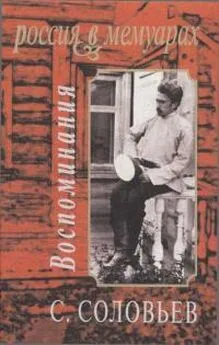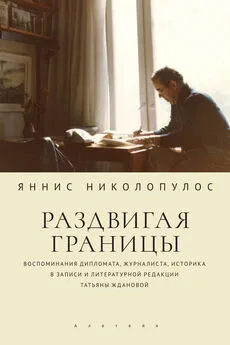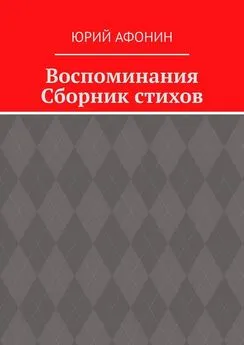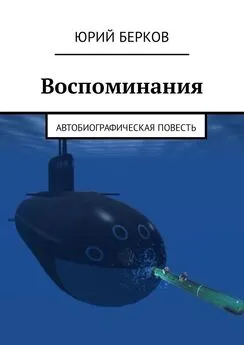Юрий Соловьев - Воспоминания дипломата
- Название:Воспоминания дипломата
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Соцэкономлитиздат
- Год:1959
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Соловьев - Воспоминания дипломата краткое содержание
Подлинный кусок истории русской дипломатии. Автор служил на дипломатических постах в Пекине, Афинах, Цетинье, Штутгарте, Мадриде. Первая часть книги Ю.Я.Соловьева - ``25 лет моей дипломатической службы`` - вышла в свет в 1928 г. и стала библиографической редкостью. Переиздавая книгу, издательство дополнило ее второй частью, найденной в личном архиве автора и в свое время подготовленной им к печати .
Воспоминания дипломата - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Калган - пограничный с Монголией китайский город. В конце прошлого века он имел все особенности маленького дореволюционного китайского административного центра. На площади города в деревянной клетке висела полуистлевшая голова казненного, вокруг которой летала стая ворон. Такие же головы я встречал и по пути в Калган на перекрестках дорог. Это были следы незадолго перед тем подавленного дунганского восстания. В Калгане по принятому порядку путешествия по Монголии я старался купить себе тарантас сибирского типа, куда укладываются чемоданы и покрываются тюфяком, на который затем ложатся, что очень удобно при продолжительности пути. Однако тарантаса мне найти не удалось и пришлось ограничиться крытой двухколесной телегой для багажа, впрочем, столь же удобной. Ко мне в Калгане был прикомандирован забайкальский казак-бурят, сопровождавший меня вплоть до конечной в то время станции Сибирской железной дороги - Зима (в 200 верстах за Иркутском). Проводник оказал мне неоценимые услуги, в особенности в приготовлении шашлыка, которым я почти исключительно питался, так как через два-три дня путешествия по Монголии не мог брать в рот взятых с собой консервов, которые мне казались необычайно пресными. Во время первых после Калгана переходов меня везли сравнительно медленно: это была местность, населенная дунганами, у которых, по-видимому, не хватало лошадей. Порядок путешествия был следующий: каждый день мы делали приблизительно от трех до пяти перегонов. Станцию образовывали небольшие монгольские кочевья, поселенные специально для почтовой службы. На каждой станции мы обыкновенно заставали уже заготовленным небольшой табун монгольских лошадей. Два конных ямщика брали к себе на седло поперечную перекладину, прикрепленную к оглоблям телеги. Остальные хватались за веревки, привязанные к этой перекладине, и наш небольшой конный отряд скакал по гладкой, как стол, степи. Другие ямщики гнали за телегой небольшой табун неоседланных лошадей, которые ловко засёдлывались уже в пути. Запасные ямщики заменяли своих товарищей на полном скаку. Уставшие лошади оставались в степи. Все они были тавреные, а потому так или иначе попадали со временем к своим хозяевам. Прибывая на станцию, я обыкновенно находил уже разбитыми две юрты и палатку, которые мне полагались по рангу. Ко мне приводили на показ барана, которого тут же резали, и затем мой спутник-казак готовил шашлык над костром из кизяка. Запах последнего, неотступно преследующий вас в Монголии, не слишком противен, хотя им и пропитаны все юрты. Для меня были очень приятны полная тишина и какое-то торжественное спокойствие, которым дышит степь. Вместе с тем в Монголии чувствовалась в то время полная безопасность. Свое единственное оружие - револьвер я так и не вынимал из чемодана. Для меня путешествие облегчалось тем, что я почти не пользовался телегой и проделал весь путь верхом. Очень часто со своим монгольским провожатым мы уезжали далеко вперед и скакали по степи, оставив далеко позади телегу с вещами и казаком. В течение одиннадцати дней я не видал ни одного строения и, не зная монгольского языка, не мог ни с кем разговаривать, кроме как со своим спутником-казаком.
На каждой станции меня встречал в парадном кафтане начальник кочевья, что являлось исконным монгольским жестом гостеприимства. Он протягивал мне обе руки ладонями вверх, на которые гостю полагается положить свои руки плашмя. Мне пришлось испытать и монгольскую честность. Я как-то, едучи верхом, выронил свои золотые часы и спохватился, лишь проехав много верст. Они мне были доставлены, хотя и растоптанные лошадиным копытом. По приезде в Петербург мне удалось их починить. В числе монгольских обычаев в то время был обмен табакерок-бутылочек с нюхательным табаком. Монголы их передают из рук в руки, и каждый или нюхает табак при помощи особой вложенной в бутылочку ложечки, или же по крайней мере подносит ее из вежливости к носу. Все русские, проживавшие в то время в Монголии, носили такие табакерки, что, по-видимому, облегчало сношения с местным населением. С монгольской медициной мне пришлось познакомиться на практике. На одном переходе я внезапно почувствовал себя так плохо, что, сойдя с лошади, не мог больше на нее сесть. Монгол, сопровождавший меня, стал весьма ловко массировать меня, после чего мне стало значительно легче, и мы благополучно продолжали свой путь. Что касается монгольских лекарств, то я убедился, что у монголов в большом ходу сахар как средство от глазных болезней. Я почти на всех станциях оставлял моим новым приятелям в подарок несколько кусков сахара. Много лет спустя, когда у меня болели глаза, я с успехом применял это средство, по-видимому, мало знакомое в Европе. К кирпичному чаю я вскоре так привык, что предпочитал его китайскому, которого у меня был целый запас. Кирпичным чаем мы пользовались и вместо денег - расплачивались им за небольшие услуги, оказываемые нам монголами. Помимо того, мой казак по принятому обычаю наделял начальников станций тремя серебряными рублями за зарезанного барана. При подобных путешествиях китайские чиновники обыкновенно ничего не платили, считая, что баран им полагается даром, а в случае, если он был им не нужен, то, наоборот, монголы должны были выплачивать китайцам его стоимость. Может быть, это одна из причин, почему монголы относились в то время к русским путешественникам с особой предупредительностью. В качестве мелочи мы иногда расплачивались и кусочками серебра от разбиваемого на куски рубля. Это приходилось особенно часто делать при переправах через реки, которые с приближением к Урге (Улан-Батор) стали попадаться чаще. Среди же пути, когда нам пришлось пересекать пустыню Гоби, местность была настолько безводна, особенно потому, что долго не было дождя, что почтовых лошадей на станциях не оказывалось, и перехода три нам пришлось сделать на верблюдах, впряженных в мою телегу. По всему пути нашего следования попадались скелеты лошадей, погибших вследствие отсутствия воды.
Мне удалось видеть живописное зрелище, представляемое конными монголами, вылавливающими своеобразными арканами (в виде жерди с петлей на конце) из табуна лошадей, нужных для нашего дальнейшего путешествия. Это, впрочем, случилось лишь два раза, когда посылаемый вперед конный монгол почему-либо не попадал заблаговременно на следующую станцию, где он должен был предупредить о заготовке лошадей. Среди ямщиков, выказывавших при этом, как и при самой езде, необыкновенную ловкость, попадались иногда и женщины. Большинство монголов было одето в ярко-красные или желтые кафтаны, и по вечерам в лучах заходящего солнца небольшая кавалькада представляла красивую картину. Поддаваясь настроению, ямщики затягивали хором заунывную песню, далеко разносившуюся по пустынной степи.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: