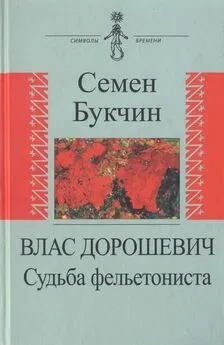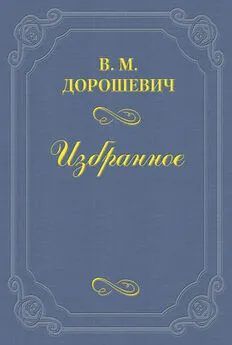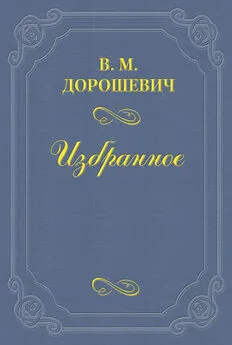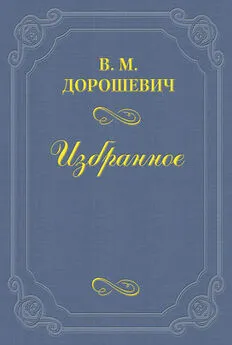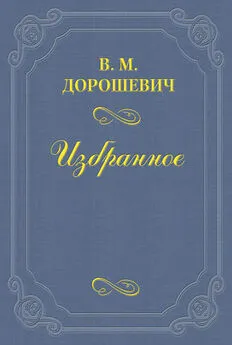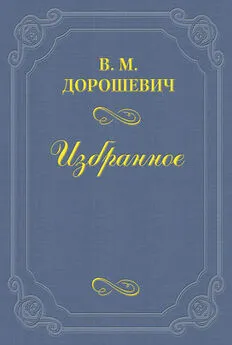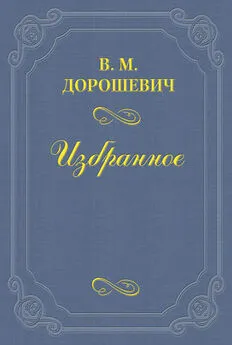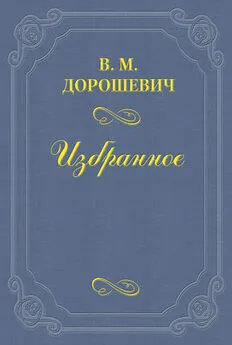Семен Букчин - Влас Дорошевич. Судьба фельетониста
- Название:Влас Дорошевич. Судьба фельетониста
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7784-0365-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Семен Букчин - Влас Дорошевич. Судьба фельетониста краткое содержание
Имя Власа Дорошевича (1865–1922), журналиста милостью божьей, «короля фельетонистов», — одно из самых громких в истории отечественной прессы. Его творчество привлекало всеобщее внимание, его карьера переживала бурные взлеты и шумные скандалы. Писатель, доктор филологических наук Семен Букчин занимается фигурой Дорошевича более пятидесяти лет и знает про своего героя буквально всё. На обширном документальном материале (с использованием дореволюционных газет и журналов, архивных источников) он впервые воссоздает историю жизни великого журналиста, творчество которого высоко ценили Лев Толстой, Чехов, Горький. Чувство юмора и трагическое восприятие мира, присущие Дорошевичу, его острословие и зоркость критического взгляда — всё передано Букчиным с равной убедительностью. Книга станет существенным вкладом в историю русской литературы и журналистики.
Влас Дорошевич. Судьба фельетониста - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ходили слухи, что Дорошевич был чрезвычайно ревнив к присутствию других талантов в «его газете», всячески «зажимал» их, вплоть до того, что каким-то авторам даже платили, отказываясь печатать написанное ими для газеты [941] . Но стало бы «Русское слово» самой большой, самой популярной российской газетой, если бы в ней не работали талантливые люди? Чего Дорошевич более всего не терпел — так это непрофессионального, безответственного подхода к делу. Что же до личных отношений, то в этой сфере он всегда был джентльменом: его деликатность, щепетильность, стремление помочь собратьям по профессии отмечали многие. Н. А. Тэффи запомнилось, как он «оглянулся» на нее «в очень тяжелый и сложный момент» ее жизни: «Он говорил долго, сердечно, ласково <���…> Взял с меня слово, что если нужна будет помощь, совет, дружба, чтобы я немедленно телеграфировала ему в Москву, и он сейчас же приедет <���…> Этот неожиданный рыцарский жест так не вязался с его репутацией самовлюбленного, самоудовлетворенного и далеко не сентиментального человека, что очень удивил и растрогал меня» [942] . И вместе с тем он был суров по отношению к бездарным подражателям, пытавшимся эксплуатировать его стиль на страницах «Русского слова». «Будьте добры, скажите г. Тардову, — писал он Благову, — что у „Р.С.“ уже есть один Дорошевич, ни полутора Дорошевичей, ни Дорошевича с четвертью ему не нужно». Присланный Тардовым фельетон «представляет собой карикатуру на меня. После этого мне стыдно даже писать короткими и прерванными фразами» [943] . Зато когда он видел подлинный талант, то, как правило, протягивал руку. Спустя многие годы, уже в эмиграции, та же Тэффи с благодарностью вспомнила о его поддержке: «Редакция очень хотела засадить меня на злободневный фельетон. Тогда была мода на такие „злободневные фельетоны“, бичующие „отцов города“ за антисанитарное состояние извозчичьих дворов и проливающие слезы над „тяжелым положением современной прачки“. Злободневный фельетон мог касаться и политики, но только в самых легких и безобидных тонах, чтобы редактору не влетело от цензора.
И вот тогда Дорошевич заступился за меня:
— Оставьте ее в покое. Пусть пишет, о чем хочет и как хочет. — И прибавил очень милые слова: — Нельзя на арабском коне воду возить» [944] .
Непросто шло формирование редакции, коллектива журналистов, способных выпускать успешную, популярную, массовую, большую ежедневную газету европейского образца. Это был процесс, растянувшийся на годы. Проблема заключалась не только в том, что нигде в России не готовились журналистские «кадры». Опытных газетчиков можно было найти в разных изданиях. Требовалось создать абсолютно новый для российской газетной практики рабочий организм, профессионально заряженный на выпуск издания, в котором оперативная и разносторонняя информация играет ведущую роль. Своеобразная учеба, приобретение нового опыта шли в «Русском слове» по мере превращения его в того «газетного левиафана», о котором заговорили в обществе спустя несколько лет после начала реформ. С годами в «Русском слове» сложился коллектив сильных профессионалов, заведующих отделами, их помощников, секретарей редакции, в число которых входили В. А. Никольский, Н. Ф. Пономарев, М. А. Успенский, А. В. Руманов, Б. И. Сыромятников, С. И. Варшавский, А. Г. Михайловский, И. В. Жилкин, П. П. Потемкин, С. Т. Патрашкин, Н. В. Калишевич, Б. П. Брио, К. М. Даниленко, В. Е. Турок, А. Ф. Аврех, К. В. Орлов.
Дорошевич входил в детали, подробности редакционного быта, для него важны были нормальные взаимоотношения сотрудников, не только деловым, но и человеческим качествам которых давались выразительные характеристики в письмах к Благову. Когда он узнал, что Н. И. Розенштейн (одесский журналист, которого, по свидетельству Гиляровского, Влас перетянул сначала в «Россию», а потом в «Русское слово») «зажимает» сообщения парижского корреспондента газеты Е. Белова (Брута) с целью продвинуть на его место своего протеже, корреспондента «Одесских новостей» Левенберга, возмущению его не было предела. Принципиальными он считал вопросы оплаты труда сотрудников. Письма к Сытину и Благову пестрят указаниями, кому и сколько стоит платить. Он слишком хорошо знает газетную кухню, и потому здесь его опыт важен. И когда жизнь семьи того же Белова-Брута в Париже приобрела по вине редакции нищенский характер, он с возмущением писал об этом Сытину и Благову как о «гнусной истории», требуя восстановить справедливость и впредь платить ему достойное вознаграждение. В 1906 году он вновь напоминает редакции о заслугах Белова, показавшего себя дельным сотрудником, когда газета, еще не имея зарубежных представителей, по сути «отыгрывалась на его парижских корреспонденциях», когда его телеграммы из Портсмута о ходе российско-японских переговоров перепечатывались множеством иностранных изданий. Наступает реакция, и газете, поскольку на внутренние темы будет запрещено писать, «снова придется отыгрываться на парижских корреспонденциях». «И в такое время человек, способный, умеющий быть в курсе дел, вместо того чтобы писать, телеграфировать, совершенно разоренный мечется по Парижу, чтобы достать что-нибудь под квитанцию ломбарда на заложенный сюртук, пять франков, чтобы сварить сегодня суп». Дорошевич настаивает на том, чтобы «сохранить полезного сотрудника». Более того, он надеется, что, вернувшись в Россию, этот журналист, «живой, отзывчивый, подвижной, знающий постановку газетного дела в европейских редакциях, будет огромным благом для редакции» [945] . И далее он предлагает конкретный план помощи Белову, который, кстати, сотрудничал в «Русском слове» еще долгие годы.
Перевод «Русского слова» на европейские рельсы требовал новой организации работы редакции. Была разработана и с каждым годом совершенствовалась структура отделов. «Редакция состояла из двух отделений: Московского, руководящего, и Петербургского. Московское отделение делилось на пять главных постоянных отделов: статей и фельетонов, московский, петербургский, провинциальный, иностранный. Отдел статей и фельетонов являлся самым важным, так как именно он выражал наиболее ясно политическое лицо газеты. Московский отдел занимался городской хроникой, петербургский — хроникой столичной жизни. Задачи провинциального и иностранного отделов ясны из их названий. Во время первой мировой войны особую значимость приобрел военный отдел. В редакции существовали также более мелкие отделы: общественно-административной хроники, финансовый, театральный, судебный, парламентский, музыкальный, народного образования, обзора печати. На правах отдела был и журнал „Искры“ — еженедельное иллюстрированное приложение к газете» [946] . Столичное, петербургское, отделение редакции, возглавлявшееся предприимчивым, умеющим устанавливать связи в самых разных, в том числе высших, сферах Аркадием Вениаминовичем Румановым, насчитывало в своем штате около ста человек. Здесь собиралась информация из приемных министров, посольств, кругов, близких к царю. Были налажены тесные контакты с аккредитованными в России корреспондентами зарубежных изданий.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: