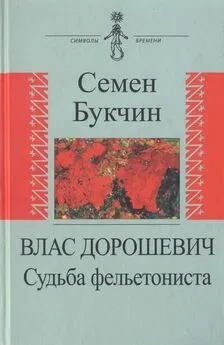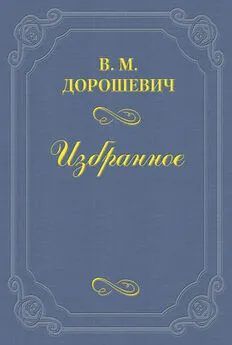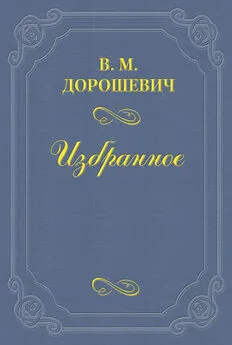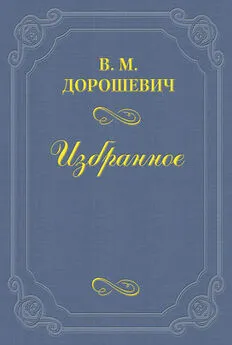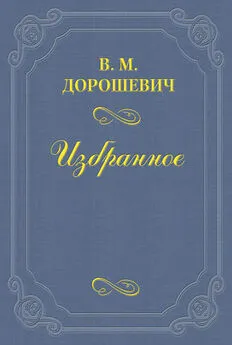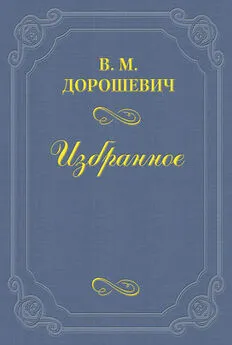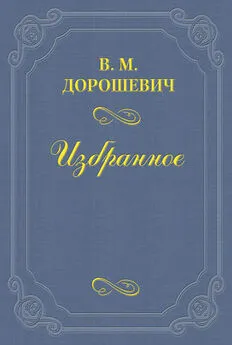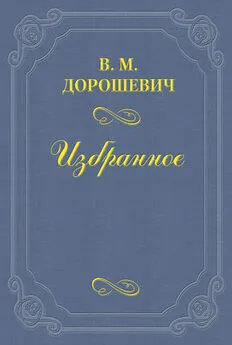Семен Букчин - Влас Дорошевич. Судьба фельетониста
- Название:Влас Дорошевич. Судьба фельетониста
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7784-0365-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Семен Букчин - Влас Дорошевич. Судьба фельетониста краткое содержание
Имя Власа Дорошевича (1865–1922), журналиста милостью божьей, «короля фельетонистов», — одно из самых громких в истории отечественной прессы. Его творчество привлекало всеобщее внимание, его карьера переживала бурные взлеты и шумные скандалы. Писатель, доктор филологических наук Семен Букчин занимается фигурой Дорошевича более пятидесяти лет и знает про своего героя буквально всё. На обширном документальном материале (с использованием дореволюционных газет и журналов, архивных источников) он впервые воссоздает историю жизни великого журналиста, творчество которого высоко ценили Лев Толстой, Чехов, Горький. Чувство юмора и трагическое восприятие мира, присущие Дорошевичу, его острословие и зоркость критического взгляда — всё передано Букчиным с равной убедительностью. Книга станет существенным вкладом в историю русской литературы и журналистики.
Влас Дорошевич. Судьба фельетониста - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Россия была вытащена из той трясины, в которой увязла, двинута вперед и пошла полным ходом <���…>
Земский собор сделал великое дело.
Достойное представителей великого народа.
В течение 10-и лет, — шесть лет один, четыре года с Филаретом, — поднял, на ноги поставил, спас:
— Воскресил Россию.
Богатыри — не мы.
Земной поклон и вечная память ему. Слава тогдашнему народу, пославшему таких представителей <���…>
300 лет тому назад мы выбирали представителей в земский собор лучше».
И в самом деле: «не все же искать „причин своих бедствий в сочетаниях планет небесных“, надо немножко и на себя оборотиться» [1206] .
В эти годы Дорошевич все чаще следует этому своему призыву — всматривается в прожитые годы. Дело шло к пятидесяти. Вроде и сил еще было немало, но все чаще накатывала усталость. Одолевали болезни. Сказывались годы газетной каторги. Шутка ли, изо дня в день, из месяца в месяц выдавать на-гора сотни строк? Да еще и заниматься постоянными внутриредакционными хлопотами. Сытин сообщал в одном из писем: «Дорошевич живет в Москве и после двух месяцев непрерывной работы по ночам в газете слег больным, теперь три недели лежит дома» [1207] .
Но он не мог без этой каторги жить. Он был прикован к газете, как каторжанин к своей тачке. Делал паузы, и продолжительные, уезжал далеко, не писал, не печатался неделю, другую и начинал невыносимо страдать. Потому и не позволял своему перу долго залеживаться без дела. Но в последние годы стал отмечать, что с большей охотою, нежели на злободневные темы, пишет фельетоны-воспоминания. Жизнь давала немало поводов, покидали грешную землю старые друзья, литераторы, актеры, адвокаты… В 1916 году далеко не старым человеком умер талантливый поэт и беллетрист Алексей Будищев, считавший его своим «литературным крестником». За два года до того скончалась Александра Ивановна Соколова. В том же 1914 году Дорошевич был на похоронах давнего приятеля писателя Владимира Тихонова, писавшего в «России» под псевдонимом Мордвин. Кугель вспоминал, что когда они с Дорошевичем в тот печальный день во время обедни на Волковом кладбище вышли из церкви покурить, он попытался пошутить, заметив, что вот-де ему придется отпевать Власа Михайловича. Дорошевич ответил: «Ну нет, не вы у меня, а я у вас буду на похоронах» [1208] . Кугель пережил его на шесть лет, но на похоронах не был.
С грустью приходилось признавать: «Нашей, старой, легендарной, „той“ — не барской, а барственной! — Москвы нет. Перемерла. Перемирает» [1209] . И он спешит запечатлеть типы уходящей Москвы — златоуста Федора Плевако, «мага и волшебника», постановщика фантастических феерий, самого предприимчивого российского антрепренера Михаила Лентовского, короля опереточных теноров, исполнителя цыганских романсов, беспутного любимца публики Александра Давыдова, блестящего театрального критика, по-старомосковски доброжелательного эстета, подлинного «Петрония оперного партера» Семена Николаевича Кругликова, чья смерть в феврале 1910 года совпала с уходом «ландыша русской сцены» — Веры Комиссаржевской.
Уходят не только люди, меняется московский быт. Стоит пройтись по старой столице в Прощеное воскресенье и Чистый понедельник. Всюду «американские распродажи» — каждая вещь не более пяти копеек. Старый москвич, Дорошевич дивится на новые порядки. «Все изменилось: и сущность, и форма». Это когда же было, чтобы на первой неделе поста Москва не ела толокна, а в Чистый понедельник лакомилась вафлями? Чтобы на Сухаревке мастеровой человек бренчал не на балалайке, а на мандолине? И мороженым «яблокам-рязань» предпочитал бананы? А вместо старых «гречневиков с конопляным маслом» — вафли со взбитыми сливками? Вроде итальянского лаццарони.
На сентиментальной ноте завершается очерк «Уходящая Москва»:
«Печально зазвонили:
— К ефимонам.
Как века и века тому назад.
Печальный звон колоколов и карнавальный шум, смех, дуденье в пищалки, настоящее вербное гулянье на грибном рынке.
Разные века смешались, спорят в этих звуках.
И под этот диссонанс уходит, уходит „старая Москва“» [1210] .
Фельетоны-воспоминания, фельетоны-некрологи перемежались с юбилейными публикациями. В ноябре 1908 года исполнилось 25 лет литературной деятельности старого товарища Владимира Алексеевича Гиляровского.
«Соблазнительно написать биографию Гиляя! — мечтает Дорошевич в фельетоне „по случаю“.
— Бурлак, казак, рабочий, актер, спортсмен, репортер, поэт.
Какие краски! Волга, война, старая Москва, славянские земли.
Вышел бы целый ряд захватывающих фельетонов».
Но самое важное для Дорошевича в старом друге это то, что литератор Гиляровский «родился от пережитой нужды, лишений, страданий, от наблюдательности, от доброго, чуткого, отзывчивого сердца» [1211] .
Это был близкий ему опыт, который не забывался.
Впрочем, он знал, что мемуары — самый опасный род журналистики. Потому что в жизни несносны старики, которые всегда спешат что-то сказать кстати и по случаю. Но зачем же подражать им, когда есть другие, блестящие образцы? Хотя бы Жюль Кларти, великолепный французский публицист, умный, тонкий, изящный. Директор лучшего национального театра «Комеди Франсез». Вот кто умел вспоминать интересно, со вкусом! Но когда пустился Кларти в воспоминания? В последние годы жизни. И это не было данью усталости. Скорее отвращением лица от той «скандальной» журналистики, которую он презирал.
Случайно ли, что Кларти умер в одном — 1913 — году с другим знаменитейшим метром французской публицистики, истинным королем фельетонного жанра Анри Рошфором? Конечно, Рошфор омрачил заключительную часть своей биографии как ярый антидрейфусар и поклонник военного министра Франции, крайнего националиста генерала Буланже. Но в памяти народной он все-таки останется истинным кумиром, обладавшим горчайшим даром сатирической издевки. Это был подлинный полубог Парижа, не устававший разить своим раскаленным пером правительство Наполеона III и самого императора, приведшего Францию к поражению в битве с германскими войсками под Седаном в начале сентября 1870 года. Луи Бонапарт, бездарный племянник Наполеона I, жестоко мстил журналисту. На Рошфора сыпались денежные штрафы, его заключали в тюрьму, изгоняли из родной страны, конфисковали номера его журнала «La Lanterne». А сколько клеветы, публичной, печатной было вылито на его голову! Не пощадили даже имени его двенадцатилетней дочери, воспитывавшейся в монастыре. Рошфора обвиняли в мошенничестве и даже в том, что он незаконнорожденный. Последнее обстоятельство Дорошевич, несомненно, особенно близко принимал к сердцу. И, конечно же, ему был дорог Рошфор как самоотверженный борец за свободу печати.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: