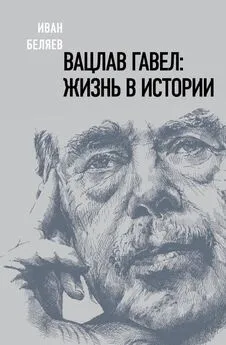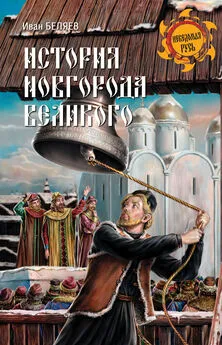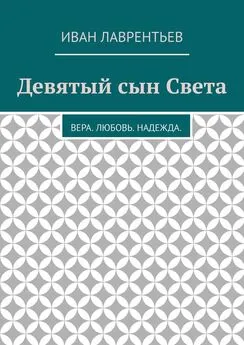Иван Беляев - Где вера и любовь не продаются. Мемуары генерала Беляева
- Название:Где вера и любовь не продаются. Мемуары генерала Беляева
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство «Питер»046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719
- Год:2015
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-496-01612-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Беляев - Где вера и любовь не продаются. Мемуары генерала Беляева краткое содержание
История нашей страны знает множество известных имен. Многие семьи служили Отечеству из поколения в поколение. Один из таких служивых родов – Беляевы. Этот род дал России многих достойных сынов. Наверное, наиболее известный из них – генерал царской армии Иван Тимофеевич Беляев. Участник Первой мировой и Гражданской войн, который впоследствии стал… национальным героем Республики Парагвай.
Род Беляевых служил России верой и правдой на протяжении веков. Тут и адъютант Суворова, и контр-адмирал Балтийского флота, комендант Кронштадтской крепости и множество простых честных русских офицеров.
Но случилась Русская смута, и генерал Беляев, бившийся за Белое дело, оказался в эмиграции. В Парагвае он не только создал Русский очаг, но и выиграл самую кровопролитную войну XX века в Латинской Америке.
Мемуары генерала Беляева – это рассказ о Первой мировой войне и о войне Гражданской.
Часть мемуаров посвящена Крыму, что особенно интересно в силу того, что потомок главного героя, Дмитрий Беляев, является моим соавтором по книге «Россия. Крым. История». Сегодня на живом примере я вижу, как в его семье сохранилась связь с дореволюционной Россией.
Мемуары генерала Беляева представляют собой достойный пример жизни русского офицера, который сохраняет веру и любовь к Родине. Он любит Россию. Несмотря ни на что, несмотря ни на какие политические обстоятельства.
Так должен поступать каждый, кто считает себя патриотом России!
Где вера и любовь не продаются. Мемуары генерала Беляева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Что же это такое? – говорил возмущенный Кулаков. – Изволь те взглянуть на приказ. Наша батарея пришла почитай что первой, после дежурной, а они нам клеют выговор!
Действительно, выговор за то, что, будучи дежурной, батарея вышла по тревоге второю.
Я бросился к начальнику артиллерии. Тот сначала не поверил, напялил очки и стал читать по складам.
– Ведь после 12 часов на дежурство вступила батарея 39-й бригады.
– Да ведь я же приказал им играть тревогу до 12 часов!
– А трубач исполнил ваше приказание на несколько минут позднее.
– Ну, тогда извините меня! Я исправлю свою ошибку в приказе. Но это хорошая примета: раз сразу у нас начались шероховатости, потом все пойдет как по маслу.
Но дальнейшего уже не предвиделось: неожиданно ко мне в барак вошел Шауман с телеграммой в руках.
«Австрия объявила войну Сербии, – читал он голосом, прерывающимся от волнения, – Россия объявила войну Австрии, Германия – России…»
– Ура! – отвечал я. – Да здравствует Россия – смерть врагам!
– Сумасшедший, – прохрипел Шауман и как ужаленный выскочил из барака.
Лагерь опустел с самого утра. Я подъехал к батарее, стоявшей в резервной колонне на сомкнутых интервалах, и прочел солдатам телеграмму, прибавив:
– Вы знаете, мы исполнили долг наш перед Царем и Родиной в мирное время… Теперь смело можем тягаться с любым врагом и не посрамим русского имени. За нашу будущую славу – ура!
Солдаты встретили войну сдержанно. Они отдавали себе отчет в ее последствиях.
Мобилизация – дело трудное и спешное – для нас не представляла затруднений. Во-первых, мы только что проделали ее в условиях мирного времени, во-вторых, за одиннадцатидневной мобилизацией оставался еще полуторамесячный срок до посадки на станции железной дороги.
Но встретились два крупных затруднения: работа на совесть при керосиновых коптилках была задачей; я решил пожертвовать запасным капиталом, оставленным Гахом, – деньги все равно быстро теряли ценность. За дело взялся неистощимый Володя Сокольский и его «Лейба-телефонисты». Сам он полетел в Тифлис за установками, а его люди занялись проводами, и через несколько дней машины застучали, а казарма вспыхнула огнями, как жар-птица.
С водой дело грозило худшим. Горный ручей, бежавший с перевала, летом превращался в жидкую струйку воды, едва достаточную для питания сотни-другой лошадей. Колодцами с трудом пробавлялось население. Пришлось снова, как в сказке, прибегнуть к «Коньку-Горбунку».
– Братцы, – говорил я перед фронтом, – через две недели пригонят тысячу коней. Инженерное ведомство составляет смету уже третий год, и лошадей придется гонять за десять верст на реку Иору. Надо задержать здесь воду водоемами. Может, кто из вас знаком с этим делом?
– Я знаю, – бодро отозвался один из молодцев. – Мы работали на цемент. Пожалуйте две бочки портланду и людей с инструментом, и через три дня наладим водопой.
Любо-дорого было смотреть на их работу. Они вырубили в известняке три квадратные цистерны – одну для водопоя, другую пониже, – для купанья и третью для стирки белья. За одну ночь вода накапливалась до краев, и когда утомленные дорогой и путевыми лишениями кони прибыли в Гомборы, они могли вдоволь пить и фыркать, полоща ноздри в кристальной влаге.
– Вы прямо как Моисей в пустыне, – говорил мне почтенный столетний батюшка, настоятель церкви. – Каково? Воду из камня высекли?
И он, и его сестра, как и он – столетняя грузинка, очень полюбили нас и всю нашу батарею. Он журил нас только за празднества во время поста, связанные с неожиданным прибытием гостей. Он был прав – это был пир Валтасара [120]. Спешившие в Тифлис запасные, тянувшиеся всю ночь с перевала, главным образом туземцы, тушины и пшавы, оставались погреться подле разложенных для них костров; мы их подкармливали остатками из котла, так как свиней и поросят жалеть уже не приходилось. Музыка гремела почти всю ночь, костры пылали, и все принимало вид какого-то туземного праздника.
– Этак и умирать легко, – говорили горцы, прощаясь. – Спасибо вам за все!
Подходили и наши пополнения. Орудийного расчета комплектовать не приходилось: он был великолепен. Но с ним прибыло несколько прекрасных конных разведчиков: взводный унтер-офицер Хаджи-Мурза Дзаболов, которого мы сразу же назначили старшим в команду разведчиков, кавалерийский унтер-офицер Алавердов, тихонький и скромный на вид; бывший конный разведчик 22-го Сибирского стрелкового полка унтер-офицер Кириленко, георгиевский кавалер, идеал русского солдата. Всегда исправный, всегда на сытой, вычищенной лошадке, без рисовки готовый на любой подвиг, незаметный, но безукоризненный всегда и везде. Остальные пошли к зарядным ящикам и в парк. Бывшие пехотинцы были вооружены карабинами и кинжалами: в трудные минуты эти «чукчуры» или «килипучуры», как мы их прозвали, рассыпались впереди батареи или патрулировали ее фланги, заменяя прикрытие, рыли окопы и производили все вспомогательные работы.
Но вот настал назначенный день. Нас отправляли не на турецкий фронт, а на западную границу, куда – неизвестно. Но к посадке мы должны были прибыть на станцию Закаспийской железной дороги в Тифлис.
Батареи выстроились на церковной площади. После молебна батюшка обошел конный строй, кропя коней и всадников святой водою. Все население высыпало на площадь, теснясь между запряжками. Многие плакали. Плакал и сам престарелый священник. Вот точное описание нашего выступления:
Помню я, как выступали мы в этот последний поход…
Радостно трубы звучали, кони рвалися вперед.
Вышел с крестом седовласый батюшка наш полковой,
Благословил нас, заплакав, на подвиг наш боевой.
– Добрые люди, прощайте, – был командирский ответ.
– Со славою нас ожидайте – или возврата нам нет.
От командирского слова дрогнули наши сердца;
Музыка грянула снова и прокатилось «Ура!»
Много годов пронеслося, многих в живых уже нет.
Только буквально сбылося то, что пророчил ответ.
Страха не зная, мы дрались, наш трепетал супостат…
Жертвой измены мы пали и не вернулись назад!
Во главе уходила наша батарея с командиром и конными разведчиками впереди. За ними трубачи на белых конях, далее, одно за другим, орудия с прислугой, за батареями – парки. Позади всех мчался только что приобретенный щегольской экипаж с неизменным Шеффером на козлах, в белых перчатках и щегольском кафтане. В нем – закутанная вуалью и улыбаясь, словно не отдавая себе отчета в будущем, с верой во все лучшее, – верная подруга моей жизни, а рядом с ней – молоденькая Тася, сестра мм. Кузнецовой.
Вот и мост на Иоре, за Мухрованью… Копыта тысячи коней посылают ей наше последнее «прости»…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
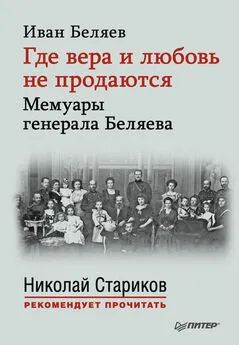

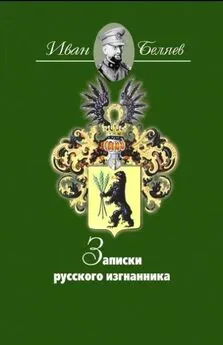
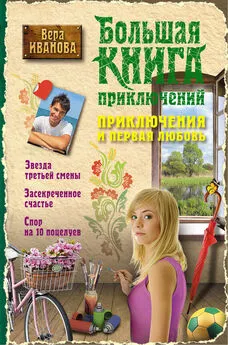
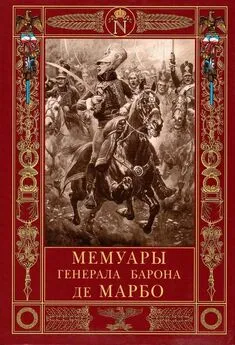
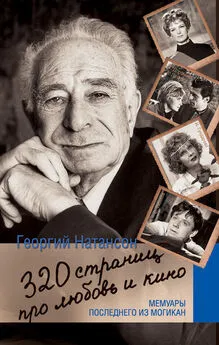
![Иван Беляев - Вацлав Гавел. Жизнь в истории [litres]](/books/1148575/ivan-belyaev-vaclav-gavel-zhizn-v-istorii-litres.webp)