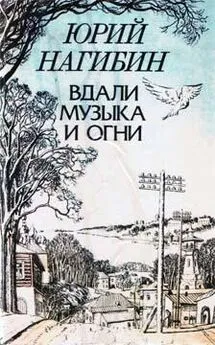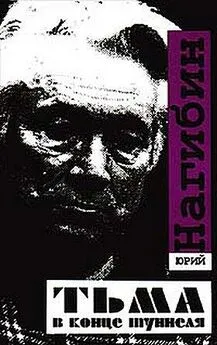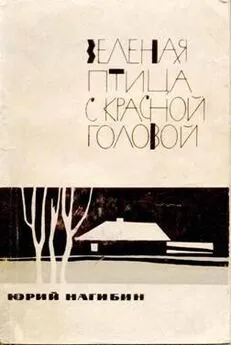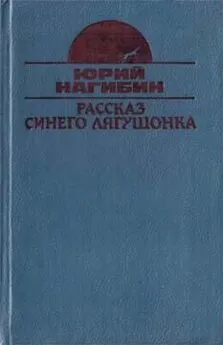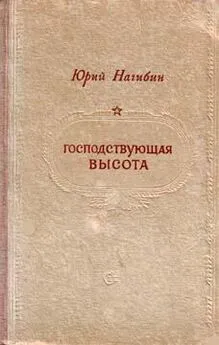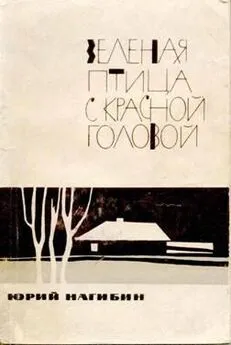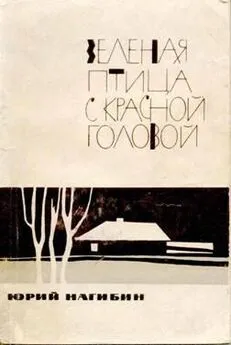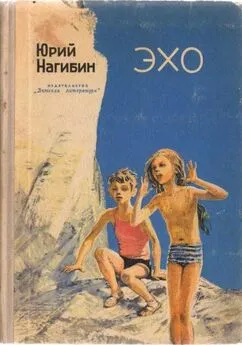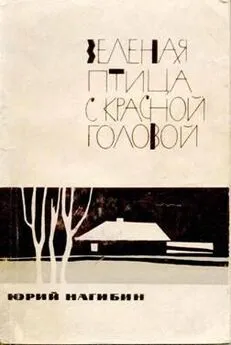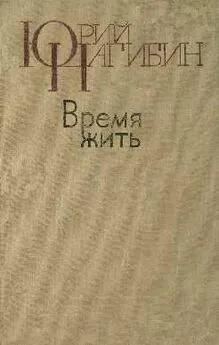Юрий Нагибин - Силуэты города и лиц
- Название:Силуэты города и лиц
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:270-00063-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Нагибин - Силуэты города и лиц краткое содержание
Силуэты города и лиц - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Это делает многое понятным в удручающем скульптурном оформлении Москвы. Нельзя, чтобы на виду оставалось прекрасное, иначе другой «продукции» не будет места. И проникновенный андреевский «Гоголь» загнан во двор дома по Суворовскому бульвару, а на его место ставится напыщенный глупый истукан. Разве это Гоголь аксаковского взрыда: святой?! Разве есть тут что-нибудь от гоголевского смятения, от его муки, смирения и мессианства? Так мог выглядеть Чичиков, если б преуспел в своих негоциях. Где-то в глубине Краснопресненского сада, укрытый от людского взора, выворачивает свой булыжник шадровский пролетарий, а площадь осквернена кощунственно-бездарным монументом, якобы изображающим героев Красной Пресни. Символически сгинули памятник Свободы, меркурьевская «Мысль», но появились безликие идолы.
Голубкина, подобно А. Блоку, остро чувствовала неотвратимость грядущих перемен. Владевшая ею тревога сообщалась ее работам, она проглядывает и в вазе «Туман» с изнемогающим в реющих клубах девичьим лицом, и в фигурах для камина «Огонь», в «Лермонтове», со странной припухлостью век, будто несущих на себе тяжесть грозного провидения, в «Страннике» и в «Женской голове», выдирающейся из камня, в чудесной некрасивой девочке «Маньке», доверчиво являющей миру ошеломленность детского беззащитного лица, в пробуждающейся опасноватой пытливости «Рабочего», в затаенности «Лисички», в «Спящих» (поразительно глубока социальность этого символического произведения), но самый полный образ сдвинутого мира воплощен, конечно, в знаменитом «Идущем человеке», произведении редкой мощи и глубины.
Он вроде бы сам едва осознал, что идет, он пытливо вглядывается в даль, вытянув шею и чуть приподняв голову. Сейчас он приостановился на миг, упершись в землю всей плоскостью левой ступни, но правая — уже приподымается для нового шага; у него широченные плечи, могучий торс и длинные мускулистые руки. Он засиделся, этот грозный человек, но сейчас пошел, и его не остановить, хоть идет он, как библейский патриарх, сам не зная куда. Да ведь дальше всех идет как раз тот путник, который не ведает конечной цели.
Эта скульптура производила громадное впечатление на современников Голубкиной, да и сейчас, когда входишь в зал вновь открытого недавно музея, взгляд, обежав все окружающие чудеса, сосредоточивается на «Идущем».
Через девять лет Голубкина создала другую скульптуру «Сидящий человек», перекликавшуюся с первой. Человек не сидит, он скорее прислонился к какой-то глыбе или к огромному пню. В нем нет расслабленности отдыхающего, его ребрастое сильное тело исполнено напряжения, превосходящего поступательную энергию идущего собрата. И в отличие от него, этот человек с хмурым, жестким взглядом точно знает, куда он идет. У него нет рук — тех больших, чуть беспомощных лап Идущего человека, но кажется, что они мгновенно отрастут, когда он поднимется и пойдет напролом. Он недвижен и спокоен великим спокойствием непреложного решения. До чего же остро высмотрела Голубкина в наружном застое тех лет этот сгусток революционной энергии!
Годы, последовавшие за революцией 1905 года, были самыми плодотворными в творческой жизни Анны Семеновны. Естественно, перемежались произведения символического толка с психологическими портретами.
Необыкновенно хороши портреты двух очень разных писателей: Алексея Толстого и Алексея Ремизова, сделанные в 1911 году. В молодом, красивом, породистом Алексее Николаевиче замечателен просвет сильного всевидящего таланта сквозь маску бонвивана. В сумрачном, настороженном, зябко съежившемся Ремизове с мощным лбом и слабо развитой нижней частью лица читается вся тревога и мука борений переломного времени.
Скульптурно менее удачен, но психологически очень интересен портрет Вячеслава Иванова, высокого поэта, над колыбелью которого расточали дары все добрые феи, кроме одной — феи естественности. Но Голубкина уловила непривычно и скорбно человеческое в чуждом мирским тревогам олимпийце.
И все же не только психологизм определяет ценность портретов Голубкиной, а то загадочное, не выражаемое словами, что лежит в искусстве портрета, когда он не более или менее удачная фотография, а откровение и бессознательное слияние художника с моделью. В державе истинного искусства портрет впитывает в себя черты самого творца и становится в известном смысле автопортретом.
Замечательно удавались Анне Семеновне образы совсем простых, нередко безымянных людей, вроде «Ивана Непомнящего» (позже имя его было установлено), «Женщины в платке», просто «Человека», а также ее помощников: резчика по дереву И. И. Беднякова и мастера художественного литья Г. И. Савинского.
Несколько слов о личности Анны Семеновны. Она обладала теми редкими достоинствами, которые в полном наборе можно встретить разве что в юбилейных речах и некрологах, допускающих любую степень преувеличения: бескорыстием, неподкупностью, кристальной честностью, правдивостью, прямотой, независимостью, смелостью, добротой, щедростью до последнего грошика и, главное, цельностью, исключающей разнобой в чувствах, мыслях и поступках. Перечисленного уже достаточно, чтобы в соглашательском, прагматическом мире человеку было очень трудно жить. А Голубкина была еще нетерпима, аскетична, бескомпромиссна в личных и общественных отношениях. Она порывала с самыми близкими людьми, если в общении возникал даже чуть слышный фальшивый звук. Когда на собрании скульпторов после Октябрьской революции послышались визгливые голоса, требовавшие разных привилегий и гостинцев, Анна Семеновна сказала: «Не надо предъявлять никаких требований к новой власти, нужно, чтобы она окрепла». Это не вызвало расположения к ней коллег, а ее обрекло на полунищенское существование до конца дней.
А было время, когда она могла стать богатой, ну, хотя бы надежно обеспеченной. Ее единственная персональная выставка, открывшаяся в исходе 1914 года в Музее изящных искусств имени Александра III, имела огромный успех. Игорь Грабарь, фактический директор Третьяковской галереи, хотел приобрести много работ. Но Голубкина заломила такую цену, что Грабарь сразу отступился, разразившись не делающей ему чести тирадой: «Просто несчастье эта босяцкая гордость». Ту же «босяцкую гордость» проявил и Коненков, единственный скульптор, которого можно было поставить рядом с Голубкиной. Оба руководствовались не жадностью или плебейской гордостью, а высоким уважением к своему искусству. Какому-нибудь иностранцу отвалили бы, не торгуясь, любую сумму даже за посредственную работу, а своих, считалось, можно купить задешево. Ряд первоклассных скульптур Голубкиной уже находился в Третьяковской галерее, но за них была уплачена достойная цена, и она считала всякую уступку тут унижением для своего цеха. Но ее выставку посещали ежедневно тысячи людей и поступления от продажи билетов составили значительную сумму. И вот всю ее, не оставив себе ни копейки, нищенски бедная Анна Семеновна пожертвовала в пользу раненых — шла первая мировая война. И совершив, просто и деловито, этот самоотверженный акт, вернулась в свою нетопленную мастерскую.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: