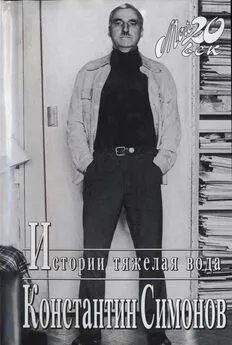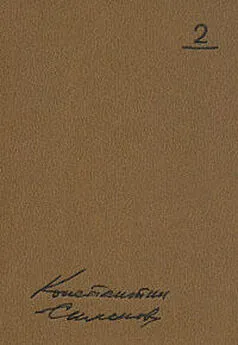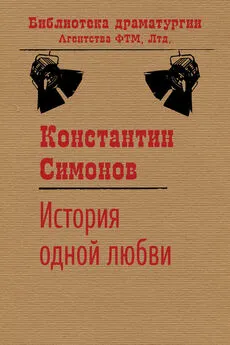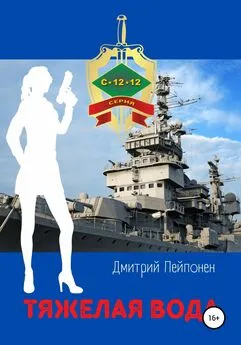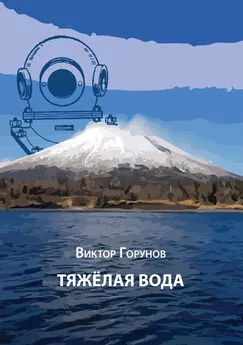Константин Симонов - Истории тяжелая вода
- Название:Истории тяжелая вода
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ВАГРИУС
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-9697-0056-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Симонов - Истории тяжелая вода краткое содержание
Книга воспоминаний Константина Михайловича Симонова (1915–1979), одного из самых известных советских писателей, автора трилогии «Живые и мертвые» и многих хрестоматийных стихотворений военной поры («Жди меня», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» и др.), наполнена размышлениями о сложностях и противоречиях его эпохи. В ней рассказывается о детстве, юности, становлении личности автора, о его встречах с И. В. Сталиным, Г. К. Жуковым и другими известными военачальниками, с которыми Симонов был знаком еще со времен военного конфликта на Халхин-Голе, а также с И. Буниным, И. Эренбургом, А. Твардовским, В. Луговским, Н. Хикметом, Ч. Чаплином, В. Пудовкиным и другими деятелями литературы и искусства. Книгу составили мемуарные очерки разных лет, а также последняя, и самая откровенная, книга писателя — «Глазами человека моего поколения».
Истории тяжелая вода - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В данном случае не к месту говорить о моей работе в редакции «Нового мира». Скажу о ней только в связи с Твардовским и с тем наследством, которое я от него получил, вернувшись в журнал.
Пока Твардовский редактировал журнал — между началом 50–го и концом 54–го года, я внимательно и даже ревниво следил за тем, как ведется журнал. И меня, наверно, можно понять, как человека, в свое время, по доброй воле, передавшего на ходу Твардовскому это литературное дело, на которое в первые годы после войны всеми, кто участвовал в нем, было положено немало трудов.
Естественно, что, читая журнал, номер за номером, я далеко не всегда соглашался с Твардовским в том выборе, который он делал — одно отвергая, а другое публикуя в отделах прозы и особенно поэзии. Рецензии и статьи, печатавшиеся в журнале, тоже иногда давали мне повод для критических размышлений, а порой и вызывали желание спорить.
Однако за пять лет без малого, которые в тот раз, в 1950–1954 годах, Твардовский вел журнал, я, несмотря на ревность, о которой упоминал, сделал главный и несомненный для себя вывод: в журнал при Твардовском вошло нечто новое, нечто такое, чего недоставало в нем раньше в период моей работы, — стремление сосредоточить литературные усилия на преодолении общественных трудностей. Критика и самокритика наших недостатков, основанная на глубоком знании жизни, велась в журнале на самом трудном и неподатливом материале, на материале наших и общественных, и бытовых неустройств в деревне, устами прежде всего Овечкина, а вслед за ним и Тендрякова, Залыгина, Троепольского. К этим именам, в данном случае главным, можно было бы прибавить еще несколько. Имен людей, чьими усилиями при Твардовском в «Новом мире» с наибольшей правдивостью и глубиной были затронуты тогда в литературе многие труднейшие проблемы нашей жизни, быта, нравственности. А за всем этим, вместе взятым, несомненно стояло постоянное стремление редактора сделать главным героем на страницах журнала правду жизни, публично разобраться в ее сложностях и тем помочь утверждению здоровых начал.
Не знаю, как бы я сформулировал это тогда, но сейчас, спустя много лет, ощущение сделанного Твардовским в «Новом мире» формулируется так. А тогда, в конце 1954 года, я просто почувствовал, что руководимый Твардовским журнал, вовлекший в свою работу Тендрякова, Овечкина, Залыгина, Троепольского и других, превосходно знающих жизнь и смело вторгающихся в нее писателей, сделал этим нечто столь важное для литературы, чего редактор, пришедший после него на его место, не вправе растерять. Моими первыми обращениями после прихода в «Новый мир» были обращения именно к этим писателям с просьбой продолжать оставаться авторами «Нового мира» и дать журналу свои новые вещи.
Большинство из тех, к кому я обратился, тяжело переживали уход Твардовского из «Нового мира» и ко мне, пришедшему на его место, относились выжидательно, а подчас и с долей иронии, как к человеку, который обещать обещает, а выполнит ли обещанное, оправдает ли их доверие — еще бог весть?
На протяжении тех трех с небольшим лет, что я вторично был редактором «Нового мира», в нем опубликовали свои новые вещи все упомянутые мною писатели, пришедшие в журнал при Твардовском. Приложить к этому все усилия я считал не только долгом перед литературой, но и долгом перед своим предшественником.
Говоря о работе «Нового мира» в те годы, вспоминаю лишь о том, что в моем самоощущении было в наибольшей степени связано с тем, что я бы назвал в журнале — традицией Твардовского. Ни о чем другом не буду.
С Твардовским в те годы я встречался редко, гораздо больше, чем с ним самим, — с его стихами, со все новыми главами «За далью — даль». Мне уже трудно понять сейчас, издали, почему так это вышло, но первые главы новой книги Твардовского не взяли меня в плен так, как это было когда-то с первыми главами «Теркина». Некоторые куски только еще разворачивавшегося повествования показались мне тогда многословными. Больше того. С какой-то, странной для меня сейчас, слепотой я не почувствовал тогда всей жизненной значительности того разговора на литературные темы, который развертывался с читателем по ходу поэмы. И даже — было — хотел отозваться, написал «Литературные заметки» с критическими размышлениями вокруг первых глав поэмы. Написал, но, к счастью, не напечатал. К счастью, потому что в дальнейшем своем развороте новая книга Твардовского все больше и больше захватывала меня. Окончательный душевный перелом во мне произвела та глава, где я прочел ставшие историческими строчки: «Тут ни убавить, ни прибавить, так это было на земле».
А когда все здание поэмы было неторопливо доведено Твардовским до конца, эта удивительная путевая книга стала для меня вторым по своему значению его произведением после «Василия Теркина».
Добавлю, что к этому времени я уже другими глазами вгляделся и в первые, когда-то не особенно понравившиеся мне главы.
Вгляделся — почувствовал их нравственную силу и меру значения в общем замысле.
Чтобы уже не возвращаться к этому, забежав вперед, скажу, что в середине шестидесятых годов мне захотелось эти слова из книги «За далью — даль» — «Тут ни убавить, ни прибавить» — сделать названием того документального фильма о начале Великой Отечественной войны, который я задумал вместе с писателем Евгением Воробьевым и режиссером Василием Ордынским. Слова «Тут ни убавить, ни прибавить» были не только названием сперва сценария, а потом и фильма почти на всем протяжении нашей работы над ним, но были как бы и высшим смыслом того, во имя чего мы делали этот фильм, постоянным напоминанием о том, как именно надо его сделать.
Мне до сих пор жаль, что в многотрудную пору выпуска этого фильма, — а вышел он на экран после долгих и жестоких споров, — мне пришлось заменить строку Твардовского, первоначально стоявшую в заголовке фильма, строкою собственного стихотворения — «Если дорог тебе твой дом…». Стихотворение «Убей его» было тоже дорого мне памятью о самом трудном времени войны, но выбранная первоначально строка из «За далью — даль» намного больше отвечала сути сделанного нами фильма.
К началу 1958 года, после того как я около трех лет снова редактировал «Новый мир», я надумал уехать на два — три года из Москвы в интересные для меня места, совмещая там писательскую работу с корреспондентской.
В редакции «Правды» в принципе одобрили мое намерение поехать ее разъездным корреспондентом по республикам Средней Азии, а мои ташкентские друзья готовы были гостеприимно принять меня в Ташкенте, если я на эти два — три года переселюсь туда вместе с семьей.
Для себя самого я все именно так и решил, но одного моего решения было мало. При отъезде на такой длительный срок речь шла о прекращении практического участия в работе секретариата Союза писателей и об уходе с поста главного редактора «Нового мира».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: