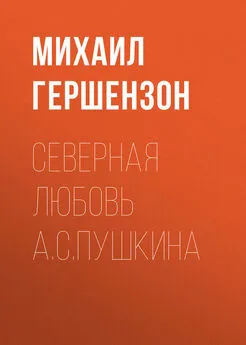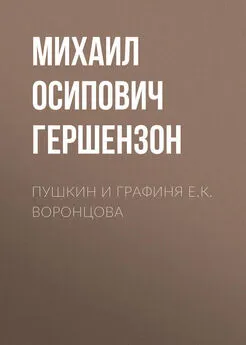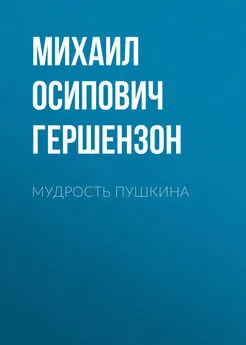Михаил Гершензон - Избранное. Мудрость Пушкина
- Название:Избранное. Мудрость Пушкина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «ЦГИ»2598f116-7d73-11e5-a499-0025905a088e
- Год:2015
- Город:Москва-Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-98712-172-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Гершензон - Избранное. Мудрость Пушкина краткое содержание
Михаил Осипович Гершензон – историк русской литературы и общественной мысли XIX века, философ, публицист, переводчик, неутомимый собиратель эпистолярного наследия многих деятелей русской культуры, редактор и издатель.
В том входят три книги пушкинского цикла («Мудрость Пушкина», «Статьи о Пушкине», «Гольфстрем»), «Грибоедовская Москва» и «П. Я. Чаадаев. Жизнь и мышление». Том снабжен комментариями и двумя статьями, принадлежащими перу Леонида Гроссмана и Н. В. Измайлова, которые ярко характеризуют личность М. О. Гершензона и смысл его творческих усилий. Плод неустанного труда, увлекательные работы Гершензона не только во многих своих частях сохраняют значение первоисточника, они сами по себе – художественное произведение, объединяющее познание и эстетическое наслаждение.
Избранное. Мудрость Пушкина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Выехали 12 мая, на Смоленск, Могилев, Броды, ехали ежедневно с 4 час. утра до 10 ч. вечера, когда останавливались на ночлег; наконец, 6 июня добрались до Праги, откуда до Карлсбада рукой подать. Марья Ивановна датировала свои письма русским стилем: «немецкого и писать никогда не стану; со мной календарь, по нем и живу». Восхищению Марьи Ивановны не было границ. Она восторгалась и дешевизною товаров в больших городах, и красотой видов, и, особенно, общим благоустройством: «Маленький лоскуток земли, но прелесть смотреть, так чисто. Самая дрянная вещь, картофель, но так чисто выполено, что каждая былинка растет сама собой, а не с крапивой по-нашему. Генерально все лучше, начиная с их мазанок; у нас в избу войти нельзя, а у них все бело. А дети в тряпках, в заплатках, но чисто, накрахмалено. Хлеб в поле прелестен, дороги бесподобные, не толкнет, катись только, а у нас такие ямы, что мозг трясется на мостовой, а как начнет толкать из ямы в яму – только держись. Мосты чудесные, как столы гладкие, а у нас из жердинок, – идешь по мосту, смотри, чтобы головы не сломать или нога пополам», и т. д.
Писем Марьи Ивановны из-за границы сохранилось немного, и судить о ее дальнейших впечатлениях по ним невозможно. Она провела лето в Карлсбаде, а в конце августа чрез Дрезден перебралась в Париж и там зазимовала; в Париже Саша и Катя брали уроки предметов. Следующее лето он снова провела в Карлсбаде, где тогда лечилось множество русских, в том числе вел. кн. Михаил Павлович; Марья Ивановна встречалась с ним там, танцевала с ним польский на балу, принимала его у себя. Жила она без расчета, а главное накупала целые возы вещей; уже чрез четыре месяца после ее отъезда из Москвы цифра денег, пересланных ей Волковым за границу, достигла 65 тысяч ассигнациями, а к концу парижской зимы она издержалась до того, что принуждена была просить взаймы у Ростопчина; он не дал ей денег, и если бы не помог ей Григорий Орлов поручительством у банкира, ей пришлось бы за полцены продать то, что она накупила; этих денег тоже, разумеется, хватило ненадолго, – весною, когда Марья Ивановна собралась в обратный путь, у нее уже опять ничего не было ни на уплату мелких долгов, ни на дорогу; этот раз ее выручил Поггенполь, поручившись за нее банкиру в шести тысячах франков. Так она и уехала из Парижа, не уплатив долга ни Орлову, ни Поггенполю, а с последнего банкир еще долго спустя требовал уплаты, потому что Марья Ивановна и в Москве не захотела платить, когда банкир прислал сюда ее вексель для взыскания [240].
Между тем, пока она жуировала за границей, ее постигли в России две крупные неприятности. Первая, при ее богатстве, была не так страшна, но все же чувствительна: она проиграла давнишний процесс против кн. Ник. Меньшикова, того самого, что когда-то ухаживал за Наташей, и чрез то потеряла 4000 десятин в Пензенской губернии с 600 душами. Эта потеря была, впрочем, возмещена изрядным наследством, которое Марья Ивановна получила в 1821 году после родственницы своей, М. И. Высоцкой [241]. Вторая неприятность должна была поразить ее несравненно больнее: она касалась ее любимца Гриши. Григорий Александрович, после своего адъютантства у Тормасова, был теперь полковником лейб-гвардии Московского полка в Петербурге. Известно, какая нервность овладела высшими военными властями после семеновской истории {188}. В офицерских кругах столицы сильно негодовали на суровую кару, постигшую семеновцев, и эти толки беспокоили Александра. На запрос кн. П. М. Волконского, находившегося при государе в Троппау, кто из офицеров особенно «болтает», И. В. Васильчиков, командовавший в это время гвардейским корпусом, отвечал, что главными болтунами считаются трое: полковник Шереметев, капитан Пестель – и Григорий Корсаков; «этот последний, – прибавлял он, – в особенности беспокойный человек». Васильчиков находил полезным перевести их в армию, но советовал осторожность, так как удалить их без явной вины с их стороны значило бы подать повод к новым толкам о произволе. Это письмо было послано из Петербурга 3 декабря (1820 г.). В Троппау на дело взглянули иначе; государь велел написать Васильчикову, что если у него есть верные доказательства, – нет оснований церемониться с упомянутыми тремя лицами: их следует перевести в армию, – «тем более, – писал Волконский, – что мы имеем письмо, писанное полковником Корсаковым в весьма дурном духе». Очевидно, какое-то письмо Корсакова было перлюстровано и в числе других таких же доставлено царю в Троппау.
Но Васильчиков и сам был не промах. Еще прежде, чем приказание государя дошло до него, он нашел повод придраться к Корсакову. Случай был ничтожный {189}и в другое время не имел бы последствий. 13 января (1821 г.) на балу, вероятно, во дворце, Григорий Александрович за ужином расстегнул мундир. Этого было достаточно: Васильчиков послал сказать ему, что он показывает дурной пример офицерам, осмеливаясь забыться до такой степени, что расстегивается в присутствии своих начальников, и что поэтому он просит его – оставить корпус ! Корсаков тотчас подал в отставку совсем. Когда об этом узнали в Троппау, то были очень довольны. На представлении Васильчикова об увольнении Корсакова, по домашним обстоятельствам, в отставку с мундиром, была 20 февраля 1821 г. положена высочайшая резолюция: «Мундира Корсакову не давать, ибо замечено, что оный его беспокоил» [242].
Марья Ивановна вернулась в Москву в августе 1821 года. Здесь в ближайшую зиму разыгрался в ее доме роман, изложение которого, надеемся, сообщит нашему повествованию тот романтический интерес, какого ему до сих пор недоставало. Впрочем, нас ждет впереди и второй роман, герой которого – Пушкин.
XI
Общей героинею обоих романов была Alexandrine Корсакова, по-домашнему Саша, старшая из двух еще незамужних дочерей Марьи Ивановны. Она была не только красавицей, как ее старшие сестры, но и самобытной натурой. Мать говорит о ней: «elle a du caractère» [243]. В 14 лет она все шесть недель поста упрямо ест только пустые щи и кашу, хотя все в доме едят и рыбу; тогда же, наслушавшись рассказов иерусалимского патриарха, она в шутку заявляет, что уедет в Иерусалим, и мать, пересказывая эту шутку в письме, прибавляет: «И уверена в Саше, – если бы она твердо предприняла, верно бы сделала». А два года спустя, живя поздней осенью в деревне с дочерьми, Марья Ивановна писала оттуда Грише: «Скажу тебе об Саше: достойная крестница своего крестного отца (ее крестным отцом и был Григорий Александрович). Третьего дня после ужина вышли мы на крыльцо. Ночь бесподобная, светло, тихо. Говоря об разных разностях, зашел разговор об страхах. Я Саше пропозицию: «Дойдешь ли ты до церкви? Если дойдешь, я даю сто рублей». – «Иду, право иду!» – «Полно врать!» – «Даете ли сто рублей?» – «Даю». Пошла, оделась. «Ну, маменька, я иду». – «А чтобы мы знали, ты оставь на могиле платок, я за ним пошлю». Мы прежде думали, что она шутит. Отправилась наша Саша. Акинфиев издали пошел смотреть. Я послала, погодя довольно время, Дугина и сто рублей проигранных. Он ее встретил на половине дороги, пошел на погост, взял платок, на который она положила даже камушек, чтобы ветром не унесло». Марья Ивановна признается, что она ни за какие деньги не пошла бы ночью на кладбище. «Я уверена, если б московские сочинители узнали бы храбрость 16-летней девчонки, то есть Жуковские, Шаликовы с братией, – верно бы написали балладу».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: