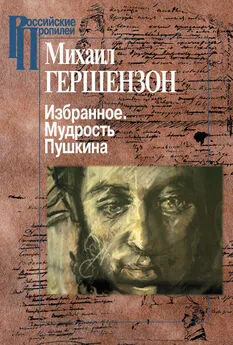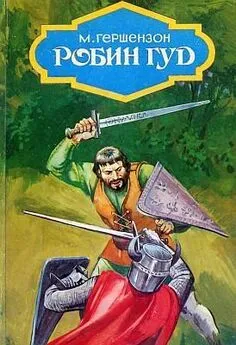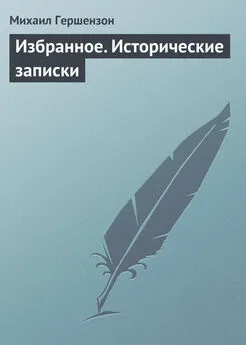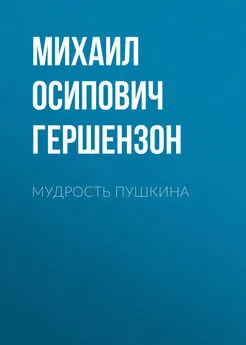Михаил Гершензон - Избранное. Мудрость Пушкина
- Название:Избранное. Мудрость Пушкина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «ЦГИ»2598f116-7d73-11e5-a499-0025905a088e
- Год:2015
- Город:Москва-Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-98712-172-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Гершензон - Избранное. Мудрость Пушкина краткое содержание
Михаил Осипович Гершензон – историк русской литературы и общественной мысли XIX века, философ, публицист, переводчик, неутомимый собиратель эпистолярного наследия многих деятелей русской культуры, редактор и издатель.
В том входят три книги пушкинского цикла («Мудрость Пушкина», «Статьи о Пушкине», «Гольфстрем»), «Грибоедовская Москва» и «П. Я. Чаадаев. Жизнь и мышление». Том снабжен комментариями и двумя статьями, принадлежащими перу Леонида Гроссмана и Н. В. Измайлова, которые ярко характеризуют личность М. О. Гершензона и смысл его творческих усилий. Плод неустанного труда, увлекательные работы Гершензона не только во многих своих частях сохраняют значение первоисточника, они сами по себе – художественное произведение, объединяющее познание и эстетическое наслаждение.
Избранное. Мудрость Пушкина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Как он пришел к настоящей вере, это, конечно, навсегда останется тайной. Из его собственного показания известно [317], что еще задолго до поездки заграницу он стал интересоваться христианской литературою и собрал значительное количество книг по этой части; но то мог быть и простой исторический интерес. Достоверно мы знаем лишь следующее: около 1820 года он, по совету какого-то неизвестного нам лица, прочитал несколько сочинений Штиллинга, которые вызвали в нем тяжелый душевный кризис, затянувшийся на много лет. Ярким свидетельством этого кризиса является уцелевший отрывок из дневника Чаадаева, веденного им за границей [318]. Это, вероятно, один из самых удивительных человеческих документов, с каким когда-либо приходилось иметь дело биографу.
Было бы чрезвычайно важно определить нравственное состояние Чаадаева в тот момент, когда его впервые коснулось влияние мистицизма, – но скудость материалов не позволяет это сделать. Несомненно только, что оно легло на подготовленную почву. За эти два года, от выхода в отставку до отъезда заграницу, Чаадаев чувствовал себя совсем больным. Болезнь его была невелика, но как раз одна из тех, которые на нервные натуры действуют особенно угнетающим образом: сильные запоры и геморрой. Чаадаев, по-видимому, от природы страдал крайней нервной раздражительностью, а под влиянием болезни и нравственных страданий, обусловленных отставкою и другими, вероятно, чисто духовными причинами, в нем развились такая мнительность и такая неустойчивость настроений, которые делали его настоящим мучеником. Он сам очень ясно сознавал свое состояние. В письме к брату из Лондона от ноября 1823 года он говорит [319]: «Мое нервическое расположение – говорю это краснея – некую мысль превращает в ощущение, до такой степени, что вместо слов у меня каждый раз вырывается либо смех, либо слезы, либо жест»; в другой раз (апрель 1824 г.) он пишет: «Признаюсь – хотя знаю, что ты не очень веришь признаниям, – нервность моего воображения делает то, что я часто обманываюсь насчет собственных ощущений и принимаюсь смешно оплакивать свое состояние». Выбитый из колеи, праздный, больной, раздираемый внутренней смутой, он жил эти два года, по-видимому, невесело; если тут и примешивалась доля Онегинской разочарованности, подмеченной в нем Пушкиным еще в петербургский период [320], то подлинные его настроения были во всяком случае очень мрачны. Вскоре после его отъезда заграницу, в ответе на письмо, где он рассказывал о чувстве глубокой радости, охватившем его на другой день по приезде в Брайтон, когда он гулял по берегу моря, брат писал ему [321]: «С тобой это редко бывает, может быть несколько лет этого с тобой не было. Гипохондрия! Меланхолия! Почему, прочитав, что ты (возликовал), и я с радости (возликовал). Стало быть, ты ожил или начинаешь оживать к радостям земным»; и дальше: «Если ты из чужих краев сюда приедешь такой же больной и горький, как был, то тебя надо будет послать уж не в Англию, а в Сибирь. Кинь все souçis [322], кидайся без всякой совести, без retrospection, в объятия радости, и будешь радость иметь. А то как-то все боишься вдруг исцелиться от моральной и физической болезни, – как-то тебе совестно…» Чаадаев и за границу поехал неохотно [323]; из дальнейшего видно будет, что его физическое и нравственное состояние там не только не улучшилось, но ухудшилось.
Признаюсь, не без страха приступаю я к изложению упомянутого дневника. Он так странен по форме, что даже простое описание его представляет почти неодолимые трудности; что же до содержания, то чисто духовное так тесно переплетено в нем с патологическим, что мудрено решить, кто имеет больше прав на него: психиатр, или историк-психолог.
Начать с того, что это даже вовсе не дневник, а ряд выписок на немецком языке из двух сочинений Штиллинга: Theorie der Geisterkunde [324], 1808 г., и дополнения к ней, Apologie der Theorie der Geisterkunde {223}, написанного Штиллингом несколько позднее в ответ на обвинения, которые навлекла на него первая книга. Эти выписки перемежаются собственными записями Чаадаева на французском языке. Уцелевший отрывок дневника представляет собою беловую копию и озаглавлен: Mémoire sur Geistkunde; он писан 23 и 24 августа 1824 года, переписан и дополнен с 26 января по 1 февраля 1825. Чаадаев каждый раз чрезвычайно тщательно указывает даты как первоначальной записи, так и переписки набело (напр.: 23 Août 1824, 10 h. du soir; après 8 heures du soir, и т. п., или: cop. incip. 31 генв. 1825 post 9 1/4 ч., и т. п.). Почти все выписки из Штиллинга снабжены в подтверждение или пояснение цитатами из Евангелия по-французски, однажды также из Вольтера, однажды из оды Ломоносова, и т. п., – и несколько раз указано, когда были отмечены – вероятно при чтении – выписываемые из Штиллинга места (напр.: Endroits marqués 5 Août 1824, и т. п.). Внутри выписок и собственных записей Чаадаева – многочисленные пометки в скобках, совершенно не поддающиеся чтению; здесь вперемежку – французские, русские, даже латинские и английские слова, и все слова сокращены, имена обозначены одними инициалами, множество загадочных значков и цифр. Это, очевидно, наиболее интимные части дневника, которые для посторонних и должны были оставаться тайною.
Надо долго вчитываться в этот дневник, чтобы сквозь призму тяжелого нервного расстройства разглядеть картину душевной драмы, совершавшейся в Чаадаеве. На первый взгляд его можно принять за продукт религиозного помешательства; но это было бы заблуждением: напротив, здесь все глубоко серьезно.
Пред нами дневник бдения, которому учил Штиллинг. Мы застаем Чаадаева в самом разгаре мистического стажа: он с напряженным вниманием следит за тем, как совершается слияние его души с Божеством. В нем происходит двойная работа: поскольку это слияние зависит от него самого, он старается во всем, даже в мельчайшем своем поступке, следовать воле Божьей; поэтому он взвешивает каждое свое душевное движение с точки зрения его угодности Богу, а в случаях нерешимости молится о просветлении своего ума и прибегает к механическому средству с целью узнать Божью волю: открывает наудачу Евангелие и ищет указания в том стихе, который как раз попался на глаза. Но главную работу делает в его душе, помимо его сознания, сам Бог; вот почему он с такой болезненной тщательностью отмечает всякое свое мимолетное ощущение, всякое смутное предчувствие, элементарнейшую мысль: все это для него – симптомы процесса, совершаемого Богом в глубине его сердца, и он жадно ищет в них шансов успеха или неуспешности этого процесса. Ужас его положения именно в том, что он должен быть не только деятелем, но и пассивным зрителем своего перерождения: мало того, что его ежеминутно терзает неизвестность, какую из двух своих мыслей ему следует предпочесть, как угодную Богу, но еще изнутри поднимаются всевозможные ощущения, из которых каждое есть непреложный признак, законченный, бесповоротный, неподвластный его воле момент в борьбе между естеством и Богом, происходящей в его душе. Отсюда острая душевная мука, которою сопровождается это бдение; и как деятель, и как зритель, он ежеминутно переходит от надежды к отчаянию, от уверенности к сомнению, и все время его жжет сознание, как страшно далек еще от него вожделенный мир благодати.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: