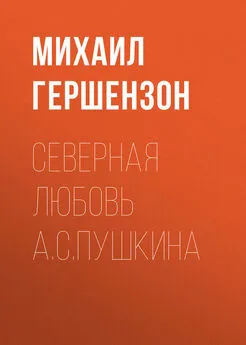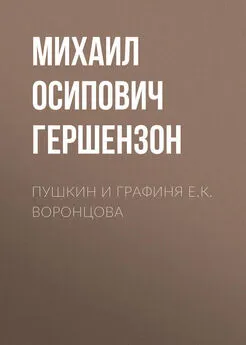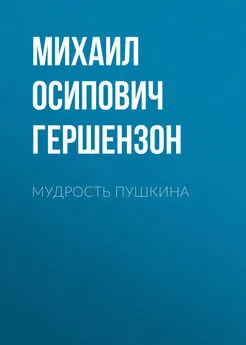Михаил Гершензон - Избранное. Мудрость Пушкина
- Название:Избранное. Мудрость Пушкина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «ЦГИ»2598f116-7d73-11e5-a499-0025905a088e
- Год:2015
- Город:Москва-Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-98712-172-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Гершензон - Избранное. Мудрость Пушкина краткое содержание
Михаил Осипович Гершензон – историк русской литературы и общественной мысли XIX века, философ, публицист, переводчик, неутомимый собиратель эпистолярного наследия многих деятелей русской культуры, редактор и издатель.
В том входят три книги пушкинского цикла («Мудрость Пушкина», «Статьи о Пушкине», «Гольфстрем»), «Грибоедовская Москва» и «П. Я. Чаадаев. Жизнь и мышление». Том снабжен комментариями и двумя статьями, принадлежащими перу Леонида Гроссмана и Н. В. Измайлова, которые ярко характеризуют личность М. О. Гершензона и смысл его творческих усилий. Плод неустанного труда, увлекательные работы Гершензона не только во многих своих частях сохраняют значение первоисточника, они сами по себе – художественное произведение, объединяющее познание и эстетическое наслаждение.
Избранное. Мудрость Пушкина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но, как ни субъективны основные положения Гершензона, к каким односторонностям они не ведут его, – неизменно в его исследованиях пленяет нас тонкий, мастерской анализ деталей Пушкинских замыслов. С его теорией можно не соглашаться, – но его наблюдения – плоды глубокого понимания и несравненного знания творчества Пушкина, вместе с верным вкусом и художественным чутьем – всегда убедительны и верны. Так, символическое толкование «Бесов» может быть спорно; объяснение того, почему Пушкин, вопреки своей «авторской честности», мог раннею осенью, 7 сентября, писать о зимней вьюге и видениях заблудившегося в снегу путника – кажется слишком замысловатым. Но наблюдение, в основе, оказывается верным: черновая рукопись «Бесов» (в Публ. Библиотеке СССР имени Ленина, тетр. № 2382) убеждает нас в том, что стихотворение задумано и набросано не раннею осенью, не 7 сентября 1830 г., как помечен перебеленный автограф, а в начале зимы, в ноябре 1829 г., когда Пушкин много разъезжал по усадьбам своих Тверских друзей. Поэт остался верен своей творческой правдивости, и Гершензон интуитивно верно угадал это. Также замечательно своею тонкостью определение композиции стихотворения «Румяный критик мой, насмешник толстопузый…», как диалога: Гершензон, не видя рукописи, не мог исправить до конца ошибок Анненкова, запутавшего чтение; но мнение его о диалогическом характере пьесы находит себе теперь полное подтверждение.
Итак, символичность замыслов Пушкина и их соответствие внутренним, глубоко-интимным состояниям сознания поэта – вот что стремится раскрыть Гершензон. Но, продолжает он, «мы не поймем ни одной из написанных им строк и исказим смысл всех, ежели не будем помнить за чтением его поминутно, что он был весь горячий и расплавленный » [511], то есть не будем видеть за прямым смыслом его слов другого, потаенного, доступного лишь вдумчивому анализу путем «медленного чтения». Поэтическое слово, по мнению Гершензона, является у Пушкина терминологическим носителем внутреннего смысла (или многих смыслов), совершенно независимо от своего исторически-нейтрализованного, коммуникативного или образного значения. Последние отступают как-то на второй план – и это дает возможность, для определения символического значения слова, пользоваться им безразлично к современным Пушкину языковым нормам, к хронологии Пушкинского творчества и даже к месту и функции данного слова в общей поэтической композиции. Разные словесные ряды не различаются, а очень разнообразные настроения и состояния, разнообразные стилистические приемы, выражаемые одним термином или близкими по значению словами, сводятся к одному субстрату – к одному общему положению мировоззрения Пушкина. Это относится особенно к работам Гершензона «Явь и сон» и «Тень Пушкина». Так, в первой из них автор пишет: «Обыкновенное русское слово «забвение» Пушкин рано наполнил своеобразным содержанием и с тех пор употреблял его, как специальный термин. Именно словом «забвение» он обозначал то состояние личности, когда душа как бы вдруг обрывает все бессчетные действенные нити, непрестанно ткущиеся между нею и внешним миром, и замыкается в самой себе. Тогда, по свидетельству Пушкина, душа инертна и глуха вовне, но тем более полна внутри себя привольной и радужной игры…» [512]. В развитие и обоснование этого положения приводится ряд цитат, поражающих нас тонким знанием творчества Пушкина и дающих богатейший материал для изучения его поэтического стиля и фразеологии. Но Гершензона занимают не вопросы стиля и словоупотребления: в глубине поэтического творчества Пушкина он ищет его общей теоретической системы, того «мировоззрения», которое «мы еще слишком мало знаем», потому что «его стихи гладки – скользнешь, и не заметишь, что в них», – системы Пушкинской философии.
Гершензона в его изучениях всегда привлекали герои, чья жизнь была посвящена внутренней работе и внутренним исканиям, – те, кто в долгой и упорной душевной борьбе выковывали свое мировоззрение: мыслители – Чаадаев, Печерин, Станкевич, братья Киреевские; те из поэтов, художников, музыкантов, кто с дарованием своим соединял стремление к решению общих, отвлеченных проблем – Тургенев, Огарев, Герцен, А. Иванов, Скрябин… Он сам, в последние годы жизни, много работал над философскими вопросами. И в Пушкине он искал мыслителя, и, пытливо всматриваясь в сокровенное значение его поэтических символов, строил систему его мировоззрения.
Основные положения описываемой системы стали складываться постепенно и издавна. Общие контуры ее намечены уже в этюде «Умиление» (Пушкин и Лермонтов, 1914). Здесь говорится о встрече, в поэзии Пушкина, двух мировых начал – греха и совершенства, греха – в деятельности и неполноте, совершенства – в полноте и неподвижности; здесь же, как «ось Пушкинского мировоззрения», формулирует автор мысль о том, что «душа человеческая первозданна, ничему не подвластна и управляется своими внутренними законами». Теория дуалистической концепции мира у Пушкина послужила основой всего дальнейшего учения о «мудрости Пушкина». Обратимся к последней.
Есть два Пушкина, говорит Гершензон: Пушкин – человек, общественный деятель, европеец, рационалист, явление своей эпохи; и Пушкин – поэт, творец. «Творя, он точно преображается: в его знакомом, европейском лице проступают пыльные морщины Агасфера», а его «самый общий и основной догмат» есть «уверенность, что бытие является в двух видах: как полнота, и как неполнота, ущербность». Полнота – совершенство, пребывающее в покое; ущербность – несовершенство, вечно движущееся, стремящееся и ищущее. То и другое заложено в мире от века, как два несоединимые начала его. Примеры их в творчестве Пушкина, излюбленные исследователем, – Ангел и Демон, Мария и Зарема, Моцарт и Сальери, Татьяна и Онегин. Всё остальное в мировоззрении Пушкина – развитие этой основной мысли: из нее и его фатализм и бескорыстное умиление перед образом совершенства, и сложная теория путей преображения и частичного приобщения к полноте («Пророк», «Поэт», «Легенда о Рыцаре Бедном»), и признание другой полноты – полноты несовершенства, хаотической бездны, а отсюда – отрицание рационалистического начала в мире, отрицание европейской культуры, лежащее в глубине мировоззрения, а, значит, и творчества Пушкина. В его представлении, говорит далее Гершензон, духовная стихия – огненной природы; жизнь духа, его деятельность, его стремление к совершенству, сводится к горению, к теплоте, к пламенности; духовное падение, отмирание, гибель – к потуханию и холоду. Это последнее положение – «термодинамическая психология» Пушкина, как называет свою теорию Гершензон, получила подробное развитие в его книге «Гольфстрем», а термодинамизмом Пушкин непосредственно связывается с Гераклитом Эфесским; учение философа и учение поэта-мудреца – два открытых нам места одного великого мирового течения мысли – как бы духовного Гольфстрема. Таковы основные положения системы философии Пушкина, созданной Гершензоном.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: