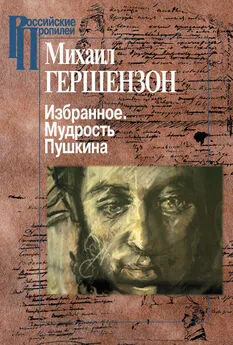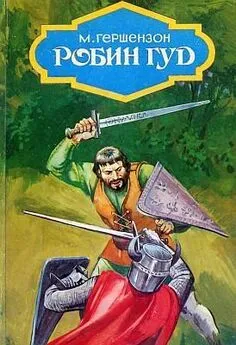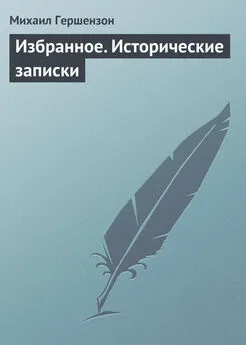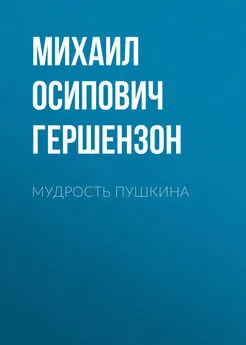Михаил Гершензон - Избранное. Мудрость Пушкина
- Название:Избранное. Мудрость Пушкина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «ЦГИ»2598f116-7d73-11e5-a499-0025905a088e
- Год:2015
- Город:Москва-Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-98712-172-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Гершензон - Избранное. Мудрость Пушкина краткое содержание
Михаил Осипович Гершензон – историк русской литературы и общественной мысли XIX века, философ, публицист, переводчик, неутомимый собиратель эпистолярного наследия многих деятелей русской культуры, редактор и издатель.
В том входят три книги пушкинского цикла («Мудрость Пушкина», «Статьи о Пушкине», «Гольфстрем»), «Грибоедовская Москва» и «П. Я. Чаадаев. Жизнь и мышление». Том снабжен комментариями и двумя статьями, принадлежащими перу Леонида Гроссмана и Н. В. Измайлова, которые ярко характеризуют личность М. О. Гершензона и смысл его творческих усилий. Плод неустанного труда, увлекательные работы Гершензона не только во многих своих частях сохраняют значение первоисточника, они сами по себе – художественное произведение, объединяющее познание и эстетическое наслаждение.
Избранное. Мудрость Пушкина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Не буду говорить о мастерстве в обрисовке остальных действующих лиц – графини, Лизаветы Ивановны, Томского, Чекалинского: оно бросается в глаза. Портрет графини на все века останется классическим изображением старости наряду с гениальнейшими типами мировой литературы – Скупым рыцарем и Плюшкиным, Отелло и пр. Вообще «Пиковая дама» представляется мне во многих отношениях венцом прозаического творчества Пушкина. Ее художественное совершенство так велико, что три четверти века, протекшие со времени ее написания, почти не состарили ее; в ней нет ни одного унца рыхлой плоти, которая от лет могла бы стать дряблой, ничего «литературного», что выдохлось бы с годами. Напротив, поскольку она устарела, ее старомодность обусловлена как раз ее излишней сухостью. Я разумею то отсутствие воздуха и глубины, тот недостаток сочности, который присущ всем повестям Пушкина, не исключая даже – хотя в меньшей степени – «Капитанской дочки». Повесть Пушкина, в отличие от нашей современной повести, – не картина, а рисунок пером; в ней нет мазков, передающих полутоны, – все сухие четкие линии, рисующие как бы остов события, обстановки или характера. Отчасти эта особенность Пушкинской прозы объясняется, без сомнения, тем, что прежде, чем заняться прозой, Пушкин долго работал стихом и привык к тому способу описания, какого требует – и какой единственно допускает – стихотворная повесть: описания именно линиями, а не широкими мазками. Но была и другая, более общая причина: такова была вообще беллетристическая техника 20-х годов. Искусство воспроизводить полноту жизни, передавать воздух и глубину картины было достигнуто позднее. Нужен был гений Гоголя и вся черная работа «физиологической» беллетристики 40-х и 50-х годов, чтобы дать эту сочность.
Пушкин, по-видимому, сам сознавал этот недостаток и местами старался восполнить его, впрочем, не всегда удачно. В «Пиковой даме» есть два таких места. Рассказ Томского о его бабушке по деталям превосходен, но именно как рассказ Томского он не может быть оправдан. Ветреный Томский, конечно, не стал бы, да и не сумел бы выписывать эти очаровательные, искусно подобранные черты быта версальской эпохи: он должен был рассказать свой анекдот проще, грубее. Дело в том, что Пушкин хотел передать картину быта, и сделал это некстати. Такою же художественной ошибкой надо признать описание графининой спальни, в которую вошел Германн. Современный художник, например Чехов, нарисовал бы здесь только те черты обстановки, которые мог и должен был в эту минуту величайшего напряжения заметить Германн. Так поступил и сам Пушкин, рисуя приготовления дуэли Онегина с Ленским:
Вот пистолеты уж блеснули,
Гремит о шомпол молоток,
В граненый ствол уходят пули
И щелкнул в первый раз курок.
Вот порох струйкой сероватой
На полку сыплется. Зубчатый,
Надежно ввинченный кремень
Взведен еще…
Это – не объективная картина, которую мог бы от себя, для читателя, нарисовать художник: здесь воспроизведены лишь те звуки и движения, за которыми напряженно следят Онегин и Ленский, ожидая призыва к дуэли. Современный художник сделал бы больше: он воспроизвел бы эти черты не фотографически, как Пушкин, а с той целью, чтобы подбором замеченных черт уяснить нам душевное состояние героя. В этом отношении образцом могут служить те строки «Войны и мира», где рассказан приезд молодого Ростова с театра войны в отпуск домой. Он бежит «по сеням и знакомым, покривившимся ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой сердилась графиня, так же слабо отворялась. В передней горела одна сальная свеча. Старик Михайло спал на ларе. Прокофий, выездной лакей, тот, который был так силен, что за задок поднимал карету, сидел и вязал из покромок лапти» {68}. Самые элементарные зрительные впечатления, схваченные на лету (Ростов бежит) – и вихрем возникающие обрывки воспоминаний: все та же слабая ручка, грязная – за это мама не раз сердилась… Прокофий – а, это тот, силач!..
С этой точки зрения подробное объективное описание графининой спальни, как ни хорошо оно само по себе, – серьезный художественный промах; всего, что здесь перечислено, Германн, конечно, не мог тогда видеть и сопоставлять в своем уме.
Моцарт и Сальери {69}
У Пушкина немало произведений объективных, как «Борис Годунов» или «Капитанская дочка»; но лучшие его вещи глубоко автобиографичны, то есть зачаты им в страстных думах о его собственной судьбе, когда его личное недоумение, созрев, открывалось ему как загадка универсальная, когда он постигал вселенский смысл своего личного и частного дела. Таковы «Цыганы», «Медный Всадник» и многое другое; и такова же эта маленькая гениальная драма о Моцарте и Сальери.
Пушкин сам был Моцартом, – в искусстве, – и он знал это; но во всем другом он был Сальери, – и это он тоже знал, это он мучительно чувствовал каждый день, потому что его жизнь была очень трудна. Конечно, дар песен – неоценимое богатство; он сам сказал о себе:
Иная, высшая награда
Была мне небом суждена:
Самолюбивых дум отрада,
Мечтанья неземного сна {70}.
– Но почему же не были ему «суждены небом» и прочие дары? Другим – удача во всем и легкая жизнь, богатство, красота, успех у женщин: тоже сладкие дары и тоже данные даром. Что за произвол в раздаче и какая возмутительная, какая оскорбительная несправедливость! Но ведь он сам, Пушкин, – носитель такого же дарового дара? Да, – и тем хуже. Может быть, Пушкин вспоминал Катенина (в Сальери решительно есть черты Катенина) {71}; Пушкин и свой дар рассматривал как частный случай общей несправедливости.
Так, мне кажется, родилась в нем идея «Моцарта и Сальери». Случайному или произвольному определению «неба» человеческое сознание противопоставляет свой закон, – закон справедливости, или, что то же, разумной причинности. «Моцарт и Сальери» есть трагедия причинно мыслящего разума, осужденного жить в мире, где главные события совершаются беспричинно; и Пушкин, сам обязанный своим лучшим достоянием беспричинному выбору, выступает здесь истолкователем и адвокатом протестующего сознания. В мире царит Судьба; разум, восстав против нее, конечно, будет раздавлен, потому что Судьба всемогуща, но разум не может не восставать, в силу самой своей природы. Кто застигнут несправедливостью Судьбы, тот либо разобьет себе голову о стену, либо, как обыкновенно и делают люди, обманет себя размышлением, что здесь – однократная случайность, что в общем жизнь все-таки совершается причинно, и что поэтому, как только случайность исчезнет, все опять пойдет закономерно. Именно так рассуждает у Пушкина Сальери. Он слишком уверен в нормальности разумного порядка; всякий другой порядок бытия кажется ему настолько нелепым и невероятным, что он просто не хочет допустить такой возможности; оттого он убивает не себя, а Моцарта, чтобы с устранением этой чудовищной аномалии восстановился правильный ход вещей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: