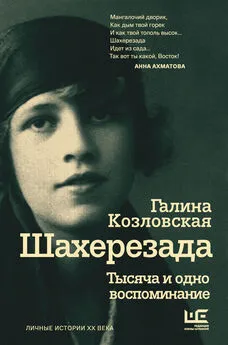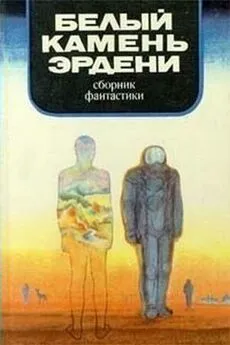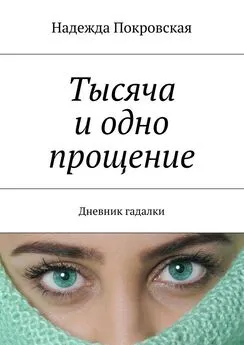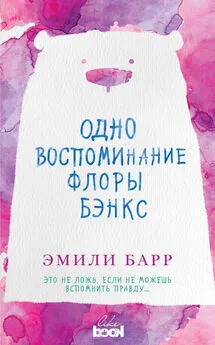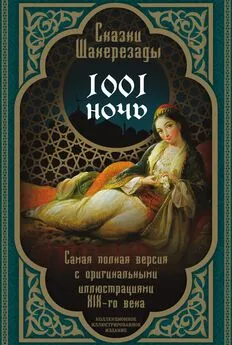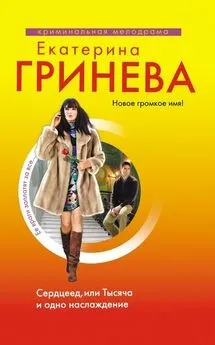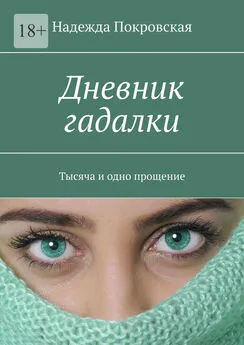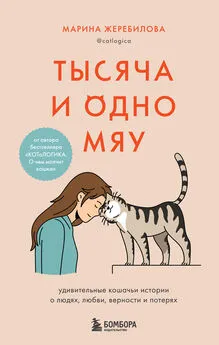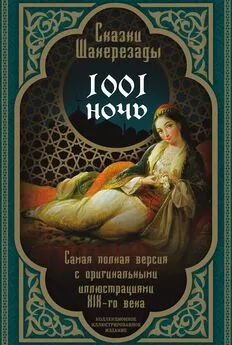Галина Козловская - Шахерезада. Тысяча и одно воспоминание
- Название:Шахерезада. Тысяча и одно воспоминание
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «АСТ»c9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-090999-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Галина Козловская - Шахерезада. Тысяча и одно воспоминание краткое содержание
Галина Козловская (1906–1997) – писательница, мемуаристка. Красавица, чьим литературным талантом восхищался Г. Уэллс, в юности блистала за границей. Но судьба поджидала на родине, в Москве: встреча с молодым композитором Алексеем Козловским, ссылка в Ташкент в 1935-м. Во время войны гостеприимный дом Козловских был открыт для всех эвакуированных.
С радушного приема началась дружба с Анной Ахматовой. Собеседники и герои мемуаров «Шахерезады» (так в одном из стихотворений назвала Галину Козловскую Анна Андреевна) – Марина Цветаева, Борис и Евгения Пастернаки, Фаина Раневская, Корней Чуковский, В. Сосинский, А. Мелик-Пашаев… А еще – высокий строй души и неповторимый фон времени.
Шахерезада. Тысяча и одно воспоминание - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И пытливый ученик обогатился на всю жизнь редкостными и бесценными познаниями в области живой музыки, которые он воспринял как эстафету от своего учителя. И в свою очередь щедро делился с музыкантами редкостными познаниями в этой области. И, вообще, в музыкальной части его жизни особую роль играло неустанное стремление сохранить мир чувств, особенности ощущения творцов музыки уходящих поколений. Пристальное изучение множества изданий Шопена привело Козловского к выводам о некоторых ошибочных трактовках издателей, редакторов и составителей. Но, не будучи любителем научного труда, он так и не зафиксировал эти примечательные наблюдения и выводы. А жаль.
Но возвращаюсь к первой поездке Алексея Федоровича в Бухару. Его прикосновение к нотной записи средневековых макомов было знаменательным. Дело в том, что до него этнографы и композиторы, начиная с Виктора Александровича Успенского и кончая Рейнгольдом Морицевичем Глиэром, отступали перед трудностью нотной записи этих сложных произведений. Они решали эту задачу компромиссно – записывали мелодию отдельно, а сложные ритмические формулы усулей (сопровождения) отдельно.
Алексей Федорович познакомился с целой плеядой блестящих макомистов, многие из них были уже глубокими стариками. В большинстве своем это были бухарские евреи, оказавшиеся самыми ревностными носителями древнейшей культуры среднеазиатской классической музыки. Благодаря им до нас дошли все традиции этого сложного искусства. Они поразили Козловского своей музыкальностью и художественной виртуозностью исполнения. Встретили они его вежливо, хотя несколько снисходительно, считая, что и этот молодой музыкант «сломает себе зубы», как и большинство его предшественников. И, к их великому изумлению, он, такт за тактом, стал записывать одновременно на двух строчках мелодию и сопровождение. Их радости не было границ. Они вошли в азарт и стали экзаменовать композитора, играя ему на бубне труднейшие, замысловатые ритмы, которые он тут же им воспроизводил. Им не удалось, как они ни старались, поставить его в тупик. После этой первой встречи они произвели молодого русского музыканта в ранг домулы (учителя). И по мере работы над нотной фиксацией макомов их уважение к нему всё росло. Когда некоторое время спустя мы приехали в Бухару, я стала свидетельницей их встречи. Старики низко кланялись, целовали ему руки и затем уже по-отечески обнимали. Обряд целования руки шокировал меня, и я затем стала стыдить Алексея Федоровича – как он может допускать подобное? На что он мне ответил, что нельзя свои европейские представления применять к глубоким и древним обычаям выражения чувств и уважения. Завершил мне эту отповедь тем, что из-за моего непонимания Востока он не намерен обижать своих почтенных коллег, и надо помнить мудрую русскую пословицу, что «со своим уставом в чужой монастырь не суйся».
Степень искренней приязни и уважения макомистов к Алексею Федоровичу я узнала, когда на одном знатном тое каждый из них считал своим долгом почтить его исполнением какой-нибудь пьесы. Мы сидели в отдельной комнате и слушали, и я удивлялась этой форме общения – тонкой, дружественной и удивительно интеллигентной. Там же я узнала бытовавшую у них поговорку: «Песня рождается в Фергане, шлифуется в Бухаре и портится в Ташкенте». Таковы были шутки искуснейших бухарских мейстерзингеров.
Глубокие впечатления от Бухары Алексей Федорович долго носил в себе, пока они не вылились в его симфонической поэме «По прочтении Айни» [91]. Произведение это, суровое по колориту, стоит особняком в его творчестве. Обсуждая и разбирая его, Михаил Фабианович Гнесин отмечал необыкновенное развитие темы, длину ее и всё нарастающее напряжение ее, приводящее к грозной, устрашающей звучности кульминации. Он, как никто, понял суть этого произведения, определив его как поэму о человеке, сильном духом, совершающем долгий путь преодоления к вершинам зодчества. Гнесин считал это произведение примечательным и уникальным по выражению в музыке архитектурного чувства. Но появилась эта вещь уже много лет спустя после постановки оперы «Улугбек» [92].
«Сказание о юном Афдале-лучнике и злом Чингизе»или «Калиостро в Петербурге»
Великая Отечественная война оказала глубочайшее влияние на внутренний мир Алексея Федоровича. Если раньше его восприятие жизни было прежде всего эстетическим и гедонистическим, то теперь он стал гораздо глубже понимать человеческие страдания, а чувство сострадания к людям и всему живому сделалось постоянным, активным и осветило его жизнь и человеческую сущность красотою настоящей доброты и нового понимания мира. Вероятно, это обостренное чувство сострадания к каждому человеку и к судьбам народов вызвало его интерес к истории великих нашествий во всех странах мира, от древности до наших дней. Жестокость и насилие были главным предметом его ненависти. Всю жизнь он ненавидел завоевателей и угнетателей и не понимал, почему люди преклонялись перед Наполеоном и чтили в нем героя. В истории великих нашествий его занимали больше всего те силы в человеке и народе, которые противостояли силам зла и сопротивлялись ордам, несшим им гибель. Чтение исторической литературы, беседы с учеными вызвали в нем интерес к временам нашествий Чингисхана, его вторжениям в Среднюю Азию.
В результате возник замысел исторической оперы, названной нами «Сказание о юном Афдале-лучнике и злом Чингизе». Создавалась она для певцов русской труппы Узбекского театра оперы и балета имени Навои, здание которого было выстроено в первые послевоенные годы. Я сочинила либретто (его потом напечатали в журнале «Литературный Ташкент» как трагедию в стихах). Алексей Федорович увлеченно писал одновременно клавир и большие куски партитуры, работал быстро и самозабвенно. В новом здании театра вскоре после его открытия прозвучал пролог оперы с участием двух прекрасных певцов, исполнителей партий Чингиза и Афдаля. Пролог оставил прекрасное впечатление, и все ожидали настоящего оперного произведения, увлекательного и полного драматизма. Особенно впечатляющими получились массовые сцены последнего акта, где выступают хоры ремесленников разных цехов. Сцены создавались под явным влиянием вагнеровских «Мейстерзингеров», но были удивительно насыщены восточной мелодикой, интонациями и динамикой ритмов. Эта музыка представляла собой вершину творчества композитора.
Но судьба оказалась злее злого Чингиза. Как следствие ждановского постановления об Ахматовой и Зощенко появилась разгромная статья, осуждавшая писателей, композиторов и художников, увлекавшихся историей далекого прошлого, возвеличивавших исторические личности и события, вместо того чтобы показывать народу героические будни современности и воспевать подвиги строителей коммунизма. Статья была грозная, директивная и не оставляла никакой надежды на постановку «Афдаля». Театр, естественно, тут же расторг договор с композитором. Раз на исторические темы наложено табу – значит, всё, конец. Я никогда не видела Козловского более несчастным, чем в эти дни. Он перестал спать, а если спал, то стонал во сне. Шок был настолько сильным, что он потом никогда не смог вернуться к этому произведению и дописать его. Вторжение государства в жизнь художника и его искусство было абортивным: оно убило дитя его вдохновения и любви. Рукопись оперы «Сказание о юном Афдале-лучнике и злом Чингизе» находится в Музее имени М. И. Глинки в Москве, как и всё музыкальное наследие Алексея Федоровича Козловского, которое я передала туда по его просьбе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: