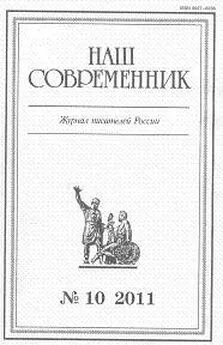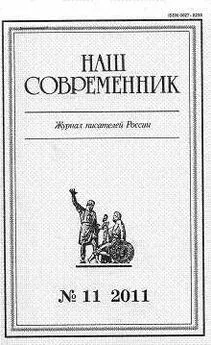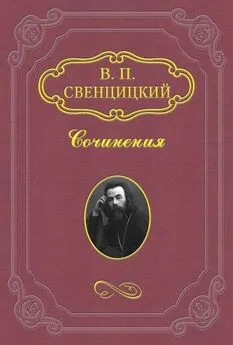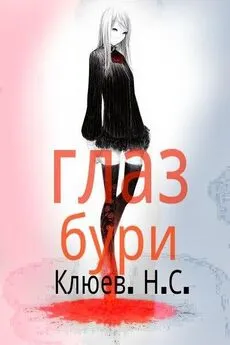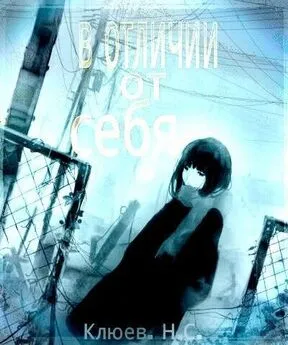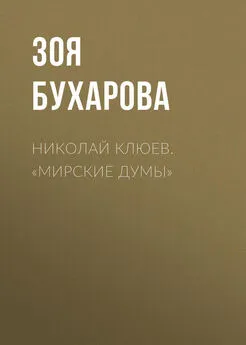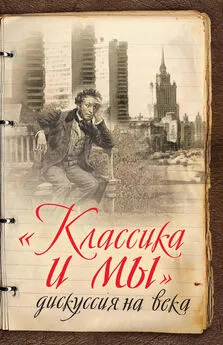Сергей Куняев - Николай Клюев
- Название:Николай Клюев
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03725-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Куняев - Николай Клюев краткое содержание
Николай Клюев — одна из сложнейших и таинственнейших фигур русской и мировой поэзии, подлинное величие которого по-настоящему осознаётся лишь в наши дни. Религиозная и мифологическая основа его поэтического мира, непростые узлы его ещё во многом не прояснённой биографии, сложные и драматичные отношения с современниками — Блоком, Есениным, Ивановым-Разумником, Брюсовым, его извилистая мировоззренческая эволюция — всё это стало предметом размышлений Сергея Куняева, автора наиболее полной на сегодняшний день биографической книги о поэте. Пребывание Клюева в Большой Истории, его значение для современников и для отдалённых потомков раскрывается на фоне грандиозного мирового революционного катаклизма, включившего в себя катаклизмы религиозный, геополитический и мирочеловеческий.
знак информационной продукции 16+
Николай Клюев - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Как многозначительна последняя фраза! Первое, что вспоминается — медведь, приходивший к келье Серафима Саровского. Но нельзя не вспомнить и того, что истовые староверы не признавали Серафима святым, как канонизированного новообрядческой церковью, считая, скорее, колдуном… Для Клюева же Серафим — святой, и сам он соотносит себя и с Серафимом, памятуя о своём изначальном предназначении, и с медведем — сакральным животным на Руси.
А «мёд из Дамаска»… Вот тут уж можно было дать волю своей фантазии — но Клюев не фантазировал, лишь упомянул об «ангельском воображении»… Доступное в видениях ему — недоступно более никому другому. И совершенно напрасно Архипов позднее иронически комментировал: «Клюев ни в Персии, ни в Китае, нигде за границей не был, но держался так, как будто был». Человек, которому доступны эзотерические видения, может спокойно «держаться так, как будто был», ибо был — в духе, временно отлетевшем от грешной плоти.
…Когда Николай снова переступил порог родного дома и обнял мать — он рассказал ей обо всём, что с ним приключилось. Встретили его тогда, как блудного сына, а для Прасковьи Дмитриевны произошедшее было настоящим ударом. Мало того что нарушил родительский наказ, из монастыря ушёл, крест с себя снял, с «хлыстами» водился — ещё и с иноверцами молился — и перекрыл себе (хоть и временно) пути духовного совершенствования, на которые мать наставляла… Пусть свершилось на время преодоление соблазна, вернулся Николай ко Христу, и снова крест на его груди — но расплелась тончайшая, незримая нить, соединяющая мать и сына, — и все рассказы Николая о том, что открылось ему в его скитаниях, на Прасковью Дмитриевну уже не действовали. Она осталась для него самым дорогим человеком на земле, но пропасть взаимного непонимания, видимо, переступить было уже невозможно.
Если вернуться к уже сказанному, нетрудно понять — как отнёсся Клюев к свинскому поступку Брихничёва, прилежно зафиксировавшего на газетной странице жалобы Клюева на домашнюю жизнь, непонимание родителями сына и их «неграмотности»… Не о грамоте книжной речь — об иной, открывшейся Клюеву в его скитаниях.
«От норвежских берегов до Усть-Цыльмы, от Соловков до персидских оазисов знакомы мне журавиные пути. Плавни Ледовитого океана, соловецкие дебри и леса Беломорья открыли мне нетленные клады народного духа: слова, песни и молитвы. Познал я, что невидимый народный Иерусалим — не сказка, а близкая, родимая подлинность, познал я, что кроме видимого устройства жизни русского народа как государства или вообще человеческого общества существует тайная, скрытая от гордых взоров иерархия, церковь невидимая — Святая Русь, что везде, в поморской ли избе, в олонецкой ли позёмке или в закаспийском кишлаке есть души, связанные между собой клятвой спасения мира, клятвой участия в плане Бога. И план этот — усовершенствование, раскрытие красоты лика Божия»…
Об этом обо всём Клюев рассказывал в 1922 году, когда не было уже в живых никого из родителей. И уж, естественно, крепкая печать лежала на устах Николая, пока здравствовала мать. Мотивы Востока и скопчества проявились в его стихах уже после смерти Прасковьи Дмитриевны. Именно её кончина развязала ему язык, а отнюдь не стремление «подладиться» под окружающую литературную среду «новой мифологией».
Вот с этим нажитым опытом (в духе — безусловно нажитым) и вошёл Клюев в московскую и петербургскую литературную жизнь. И узрел тамошние нравы. И увидел наркоманов, педерастов, «интеллигентных» шлюх, мальчиков и девочек со склонностью к суициду (самоубийства возводились в культ), «мудрецов», одержимых проблемами половой жизни и млеющих в разговорах об «одиноких», «кошкодавах» и прочих тогдашних «неформалах». Узрел равнодушный, ни к чему не обязывающий разврат «интеллигентного общества» столицы, где «беременный мужчина» Бурлюка прекрасно соседствовал с банными описаниями кузминских «Крыльев» («баня с мягкими господами» во многом навеяна этими описаниями наряду с картинами из жизни «жоржиков» — Иванова и Адамовича, для которых гомосексуальный разврат был привычным делом и которые в конце концов смотались в Европу, избегая уголовного преследования за убийство партнёра). Кланялся Клюев Михаилу Кузмину и его «наперснику» Юрию Юркуну в письме сыну богатого промышленника, вхожему в литературные круги Израилевичу, интересуясь мнением Кузмина о «Лесных былях». Тонкого художника в нём увидел, но человеческой близости не ощутил — напротив. Позже в письме Есенину он напишет: «А умиляться тем, что собачья публика льнёт к нам, не для чего, ибо понятно и ясно, что какому-либо Кузьмину или графу Мон-те-тули не нужно лишний раз прибегать к шприцу с морфием или кокаином, потеревшись около нас. Так что радоваться тому, что мы этой публике заменили на каких-либо полчаса дозу морфия — нам должно быть горько и для нас унизительно». Знал, что писал. Чересчур легко, точнее, легковесно было бы, вчитываясь в позднейшие клюевские похвалы Кузмину, сводить часть этих похвал к физиологическому интересу. Ведь это клюевское «потеревшись» ясно говорит о том интересе, который он вызывал у Кузмина и его свиты.
Сейчас же в письмах Николай, отвращаясь от городского интеллигентского блуда, пишет Ширяевцу не без иронии над происходившим на его глазах, над жалобами Ширяевца на любовную неудовлетворённость: «В феврале был в С. П. Б. Клычков, поэт из Тверской губернии из мужиков, читал там в литературном интимном театре под названием „Бродячая собака“ свои хрустальные песни, так его высмеяли за то, что он при чтении якобы выставил брюхо, хотя ни у одной петербургской сволочи нет такого прекрасного тела, как у Клычкова. Это высокий, с сокольими очами юноша, с алыми степными губами, с белой сахарной кожей… Для меня очень интересна твоя любовь и неудовлетворённость ею. Но я слыхал, что в ваших краях сарты прекрасно обходятся без преподавательниц из гимназий, употребляя для любви мальчиков, которых нарочно держат в чайных и духанах для гостей. Что бы тебе попробовать — по-сартски, авось бы и прилюбилось, раз уж тебя так разбирает, — да это теперь и в моде „в русском обществе“. Хвати бузы или какого-нибудь там чихирю, да и зачихирь поволжски. Только обязательно напиши мне о результатах…» В ответ на последовавшее недоумение Ширяевца такой откровенностью уточняет: «Почему тебе кажется, что мне не идёт говорить про любовь и сартские нравы — я страшно силён телом, и мне нет ещё 27-ми годов (на самом деле Клюев был годом старше. — С. К.). Встречался я с Клычковым, и всегда мы с ним целовались и дома, и на улице… Увидел бы я тебя, то разве бы удержался от поцелуев?..» Не исключено, что он здесь и проверял своего собеседника в отношении к нему самому (как проверял в другой области Леонида Семёнова — не выдержавшего этого испытания) и больше «давил» на интимную сторону в контрасте с описанными питерскими «игрищами»… А ещё подобные откровения в сочетании с похвальбой своим здоровьем, которое на самом деле было не очень хорошим (болезни преследовали Николая одна за другой — и для него, слабосильного, в самом деле было «свить сенный стог мудрее, чем создать „Войну и мир“ иль Шиллера балладу»), скорее, давали возможность заглушить страх смерти, который всё чаще и чаще одолевал его… Впрочем, подобные откровения возможны были для него лишь с человеком, которого он действительно считал близким себе по духу — чувство сиротства после ухода матери его не оставляло, а поведение расхвалившего его и рядящегося в близкого друга Городецкого уж слишком хорошо напомнило Николаю поведение Брихничёва.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: