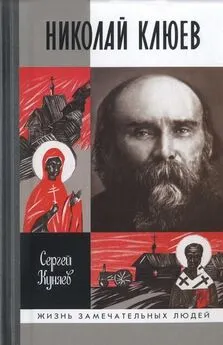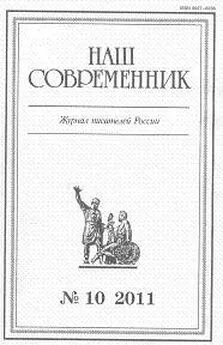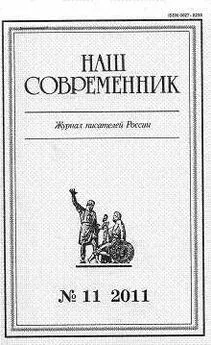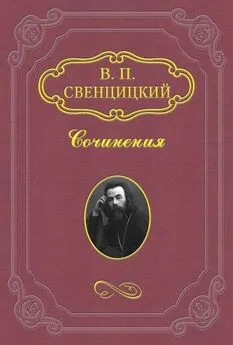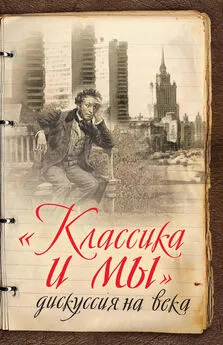Сергей Куняев - Николай Клюев
- Название:Николай Клюев
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03725-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Куняев - Николай Клюев краткое содержание
Николай Клюев — одна из сложнейших и таинственнейших фигур русской и мировой поэзии, подлинное величие которого по-настоящему осознаётся лишь в наши дни. Религиозная и мифологическая основа его поэтического мира, непростые узлы его ещё во многом не прояснённой биографии, сложные и драматичные отношения с современниками — Блоком, Есениным, Ивановым-Разумником, Брюсовым, его извилистая мировоззренческая эволюция — всё это стало предметом размышлений Сергея Куняева, автора наиболее полной на сегодняшний день биографической книги о поэте. Пребывание Клюева в Большой Истории, его значение для современников и для отдалённых потомков раскрывается на фоне грандиозного мирового революционного катаклизма, включившего в себя катаклизмы религиозный, геополитический и мирочеловеческий.
знак информационной продукции 16+
Николай Клюев - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Изба помнит и хранит всё, и даром, что «время, как шашель, в углу и за печкой / дерево жизни буравит, сосёт…». Древние Парки тянули жизни нить и обрезали её в урочный час — и в этом прикосновении лезвия к нити было мгновенное веление неумолимого рока. У Клюева Судьба также отмеряет свой срок всему живому, но её лик — лик древней старухи, хранящей заветы тысячелетий, — и в её нити и игле не только начало и конец срока, но начало перехода в вечное и немое сказание вечности, разлитое в воздухе, напояющем русское село.
Это «вечное» стучится в каждую клетку тела поэта, отзывается сладкой и мучительной болью в каждом нерве, нагружает мозг непосильными думами, когда мысли о близкой смерти всё чаще начинают посещать его: «Вы, деньки мои, голуби белые, / а часы — запоздалые зяблики, / вы почто отлетать собираетесь, / оставляете сад мой пустынею?.. / Аль иссякла криница сердечная, / али веры ограда разрушилась, / али сам я — садовник испытанный — / не возмог прикормить вас молитвою?..» Он сам ткёт своё «вечное», в котором природа уже не храм, где молится человек Богу, где «мнится папертью бора опушка». Там, где «сосны молились, ладан куря» — уже всё мироздание отправляет свою молитву, готовясь к отплытию… «Дрозд запел „Блажен муж“ и „Кресту Твоему“… / Утомилась осина вязать бахрому. / В луже крестит себя обливанец-бекас…» И сам поэт, кающийся в том, что «неудачен мой путь, тяжек мысленный воз», готов отправиться в вечное плавание вслед за матушкой в те небесные края, что предвещаны отцом Аввакумом в его великом «Житии».
Там, под Дубом Покоя, накрыты столы,
Пиво жизни в сулеях, и гости светлы —
Три пришельца, три солнца, и я — Авраам,
Словно ива ручью, внемлю росным словам:
«Родишь сына-звезду, алый песенный сад,
Где не властны забвенье и дней листопад,
Где берёза серьгою и лапою ель
Тиховейно колышут мечты колыбель».
Весь животный и растительный мир, уже покинувший своё «животное» и «растительное» состояние, принявший крещение и осенённый Божьей Благодатью, становится учителем и наставником «кудрявого мальца», для которого время в этом мире ступает семимильными шагами — и он оглянуться не успевает, как сам готов стать «тятькой», отягощённым знанием, полученным в открытой ему природной «книге»:
Пот трудолюбца июля,
Сказку кряжистой избы —
Всё начертала косуля
В книге народной судьбы.
Этот мир стоит на пороге уничтожения человеком — человеком с железной поступью, с железной хваткой, железными мыслями, посланцем железа… И Клюев, с благоговением входящий в лесную чащу, заклинает её словом любви — её, уже страшащуюся человечьей поступи.
Не в смерть, а в жизнь введи меня,
Тропа дремучая, лесная!
Привет вам, братья-зеленя,
Потёмки дупел, синь живая!
Я не с железом к вам иду,
Дружась лишь с посохом да рясой,
Но чтоб припасть в слезах, в бреду
К ногам берёзы седовласой…
Он, неслышными шагами вступающий в пущу-матерь, слышит шаги иного пришельца, от поступи которого всё живое стремится затаиться в глухой, недоступной человеку чаще.
Обозвал тишину глухоманью,
Надругался над белым «молчи»,
У креста простодушною данью
Не поставил сладимой свечи.
……………………………
Заломила черёмуха руки,
К норке путает след горностай…
Сын железа и каменной скуки
Попирает берестяный рай.
«Я никогда не был в Олонецкой губернии, — писал „сын железа и каменной скуки“ Маяковский в одной из своих статей начала войны, — но я достоверно знаю — сегодня её пейзаж изменился до неузнаваемости оттого, что под Антверпеном ревели сорокадвухсантиметровые пушки… Тот не художник, кто на блестящем яблоке, поставленном для натюрморта, не увидит повешенных… Можно не писать о войне, но надо писать войною!»
Олонецкая губерния (а назвать можно было в этом контексте абсолютно любую) появилась здесь в прямой связи с Клюевым, стихи которого и в «Сатириконе», и в «Ежемесячном журнале», и в «Биржевых ведомостях» Маяковский внимательно читал и, естественно, отвергая чуждый себе словарь и чуждую себе поэтику («возненавидел сразу — всё древнее, всё церковное и всё славянское», — как позже сам признавался в автобиографии «Я сам»), в полемическом задоре не мог не отметить (через упоминание Олонии) изменение пейзажа в самой клюевской поэзии… Пройти мимо Клюева не мог уже никто из пишущих и размышляющих о поэтах в связи с началом войны.
Николай жил в это время в деревне Рубцово, где они с отцом снимали угол, с питерскими литераторами связывался лишь письмами, его стихи постоянно появлялись в периодике, печатались в антологиях «Современные русские лирики» и «Избранные стихи русских поэтов». Их брали в свои сборники и хрестоматии и Городецкий, и Ольга Озаровская, и Анастасия Чеботаревская… Он стал одной из центральных фигур «литературного процесса», а следовательно, предметом полемики, в которой неумеренные подчас похвалы перемежались с уничижением на пределе брани.
Он чувствует в себе сущностный перелом, всё явственнее отражающийся в стихах, в их густой, всё нарастающей в образной красочности фактуре. Тревога и нешуточный страх слышны в его письме Ширяевцу: «Так тяжело себя я чувствую за последнее время, и тяжесть эта особеная, испепеляющая, схожая со смертью: не до стихов мне и не до писем, хотя и таких дорогих, как твои. Измена жизни ради искусства не остаётся без возмездия. Каждое новое произведение — кусочек оторванного живого тела. И лжёт тот, кто зовёт книгу детищем. Железный громыхающий демон, а не богиня-муза — помога поэтам. Кто не молится демону, тот не поэт. И сладко, и вместе нестерпимо тяжело сознавать себя демонопоклонником…» В устах любого из символистов или акмеистов это прозвучало бы если не как сущее пижонство, то, во всяком случае, как нечто играющее на «литературную» гордыню… Для Клюева же с его сверхчувственным опытом подобные размышления поистине чреваты подлинной трагедией.
«Человеки делаются способными видеть духов при некотором изменении чувств, которое совершается неприметным и необъяснимым для человека образом, — писал епископ Игнатий Брянчанинов. — Он только замечает в себе, что внезапно начал видеть то, чего доселе не видел и чего не видят другие, — слышать то, чего доселе не слышал. Для испытавших на себе такое изменение чувств оно очень просто и естественно, хотя необъяснимо для себя и других; для неиспытавших — оно странно и непонятно… Желание видеть духов, любопытство узнать что-нибудь о них и от них есть признак величайшего безрассудства и совершенного незнания нравственных и деятельных преданий Православной Церкви. Познание духов приобретается совершенно иначе, нежели как то предполагает неопытный и неосторожный испытатель. Открытое общение с духами для неопытного есть величайшее бедствие или служит источником величайших бедствий…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: