Сергей Трубецкой - Минувшее
- Название:Минувшее
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ДЭМ
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Трубецкой - Минувшее краткое содержание
Автор книги - потомок известной аристократической семьи, сын философа Евгения Трубецкого - живо и увлекательно вводит читателя в атмосферу русского общества накануне революций 1917 года. Пройдя тяжкие испытания, выпавшие на его долю в первые годы советской власти, приговоренный к смертной казни по надуманному обвинению и высланный затем из СССР, он стремится в своих воспоминаниях подчеркнуть идеи добра, справедливости, любви к Родине.
Минувшее - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Насколько вообще позволительны такие широкие обобщения, я думаю, что французы — наиболее «умный» народ современности... Самый умный, но, конечно, не самый мудрый.
Из Парижа я проехал в Швейцарию, где тогда еще не процветали, как теперь, зимние спорты. Только очень ограниченное число спортсменов, главным образом англичан, занималось ими.
Из Швейцарии я поехал в Мюнхен. Город этот имеет много шарма. Я помню, однако, испытанное мною там разочарование, которое, разумеется, к самому Мюнхену никак не относится! В юности мне нравились, по репродукциям, картины Беклина, и я радовался мысли увидать их в подлиннике. И вот, картины эти меня совершенно разочаровали, вся прелесть Беклина для меня пропала...
Как вообще своеобразна эволюция и смена художественных «очарований» и «разочарований»! Тут, с Беклиным, дело еще сравнительно просто: по репродукциям я, воображеньем, совершенно неправильно представил себе подлинники, а увидев их, разлюбил и репродукции, которые мне раньше нравились... Но какие таинственные душевные процессы приводят к тому, что-то, что раньше приводило в художественный восторг, вдруг теряет всякую прелесть!.. Это мне приходилось переживать и в отношении некоторых статуй и картин, и в отношении прикладного искусства. Так, одно время я очень любил «датский фарфор», а потом совершенно охладел к нему, любовь же к старинному севрскому и саксонскому осталась неизменной.
Говоря о фарфоре, не могу не сказать, что после того, как я увидел Китайскую выставку в Париже (1936), я глубоко почувствовал, что, по сравнению с китайцами, мы все-таки— варвары! Какая бездонная глубина древнейшей и утонченной культуры чувствуется в китайском искусстве, даже прикладном, в том числе в ни с чем не сравнимом древнем фарфоре.
Из Мюнхена, нигде не задерживаясь, я вернулся в Бегичево, куда приехал к самому Рождеству 1913 года, за полгода до войны...
ВОЙНА 1914 ГОДА
Нельзя сказать, чтобы война явилась для меня и для очень многих — полной неожиданностью.
В Европе чувствовалась неустойчивость и нервность.
В Германии было как-то ощутимо, что она «созревает» для войны. На мой наивный вопрос об этом наш посол Свербеев ответил мне с успокоительной улыбкой. Свербеев, как известно, не отличался ни особым умом, ни тонкой наблюдательностью.
В Берлине я встретил жившего там тогда моего двоюродного брата Юрка Новосильцева. Его более основательные наблюдения совершенно совпадали с моими мимолетными. Ничего определенного не было, но в воздухе пахло грозой.
Убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда при такой насыщенной грозовой атмосфере было особенно опасно. Известие это мы получили в Бегичеве, и я прекрасно помню, как при чтении первых телеграмм о сараевском убийстве Папа сказал мне: «Это пахнет войной!»
Дядя Гриша (младший брат Папа) был в то время начальником Ближневосточного отдела Министерства иностранных дел и, ввиду своей личной близости к С. Д. Сазонову, играл в министерстве значительно большую роль, чем та, которую он должен был бы иметь по своей должности. Его письма Пана, несмотря на их обычную осторожность, никак не рассеивали, а еще усиливали наши опасения войны.
В таких случаях до самого конца хочется верить, что грозные тучи все же рассеются...
Так или иначе, наша дипломатия делала все, что было в ее силах, чтобы избежать войны. России в это время был особенно необходим мир! После поражения на Дальнем Востоке Россия пережила опасные революционные волнения. Только что выйдя из этих тяжелых потрясений, она начала развиваться во всех отношениях — с невероятной быстротой. Так здоровый организм реагирует иногда на болезни. Экономический подъем России бросался в глаза всякому; темп его в некоторых областях был поистине головокружительный.
Несомненную и очень значительную опасность представляла неустойчивость социального строя России: аграрные волнения — яркое тому доказательство.
Смелая, и в то же время осторожная, земельная и крестьянская политика Столыпина только начинала давать свои плоды. Число хуторских и отрубных хозяйств к началу войны, если не ошибаюсь, приближалось к миллиону. Цифра эта была огромна, но для безбрежных просторов России этого было еще совершенно недостаточно! Крепкий крестьянин-собственник, на которого сделал государственную ставку Столыпин, еще недостаточно укрепился, а община защищалась своеобразными методами. На память мне приходит разговор мой — примерно в 1912 году—с несколькими очень хорошими стариками-крестьянами соседнего с нами села Васильевского. Я спросил их, не выделился ли кто-нибудь из их общины, как это уже наблюдалось в соседних деревнях?— «Нет,—отвечали старики,—никто не выделился».— «И ошибется, кто выделится!» — спокойно заметил хозяйственный старик Поликарп Паршин.— «Почему ошибется?» — спросил я.— «А потому, что палить его будем,— рассудительно сказал другой старик, Столяров.— Так уж решили — значит, не выделяйся!» И действительно в Васильевском до самой революции выделив на основании «закона 9-го ноября» не было...
Пережившая себя крестьянская община еще не была добита и ликвидирована. Она продолжала еще тормозить как экономический прогресс сельского хозяйства, так и процесс укрепления социального строя на новых, более рациональных и устойчивых основаниях.
Община, за которую так цеплялись наши консерваторы (хотя она была и не столь оригинально-русским и не столь древним установлением, как то считали славянофилы), была на самом деле превосходной питательной средой для развития революционных бацилл. Я помню наши споры на эту тему, еще в мои студенческие годы, с дядей Федей Самариным. Консервативный романтизм в вопросе об общине несомненно лил воду на революционную мельницу, но наши крайне-правые этого не замечали, или не хотели замечать.
Я помню, как дядя Федя, обычно очень тихий и спокойный, в пылу спора сказал мне: «Если ты хочешь разрушать нашу традиционную общину,— ты просто — революционер!» — «Дядя Федя,—отвечал я,—доходит ли твой консерватизм до того, чтобы «охранять» даже условия, питавшие движения Разина и Пугачева? Если — да, то сохраняй и общину: она родит новых Пугачевых. Я держусь другой традиции — борьбы с такими движениями!»
Обидно вспомнить, что политика Столыпина встречала непримиримую и мощную оппозицию в таких прекрасных консервативных кругах, как самаринские (дядя Федя был одним из вожаков правой оппозиции Столыпину в Государственном Совете).
Я упоминал выше о некультурности наших «черносотенцев», но дядю Федю в некультурности уж никак нельзя было упрекнуть: это был человек широкого образования и глубокой культуры. Здесь был, мне кажется, случай того «консервативного романтизма», опасность которого я тем более признаю, что сам чувствую некоторые его искушения...
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


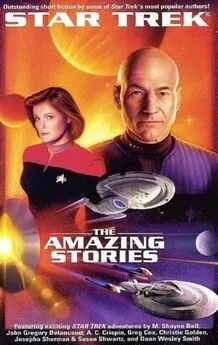

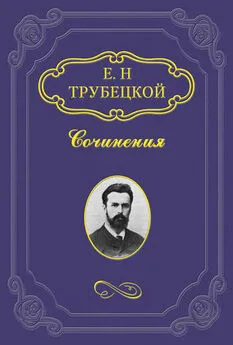
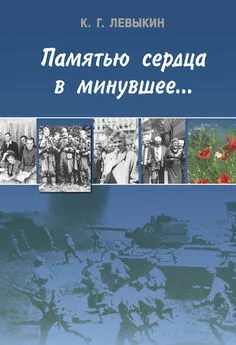
![Евгений Трубецкой - Наша любовь нужна России [Переписка Е. Н. Трубецкого и М. К. Морозовой]](/books/1073809/evgenij-trubeckoj-nasha-lyubov-nuzhna-rossii-perepi.webp)