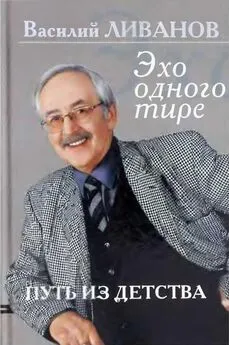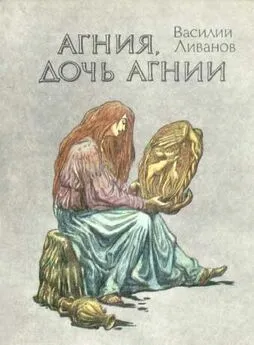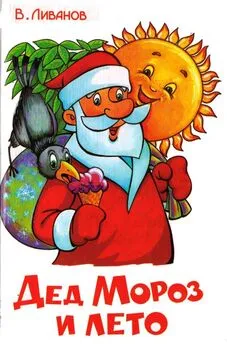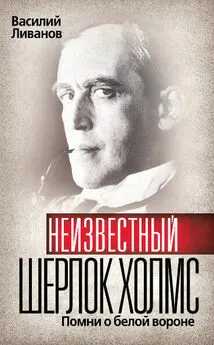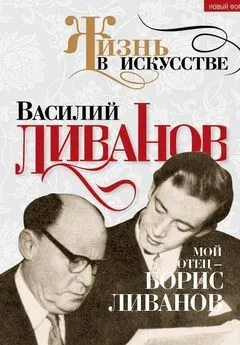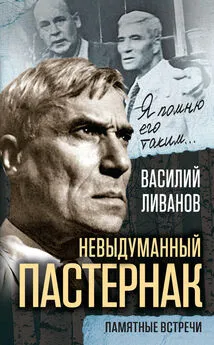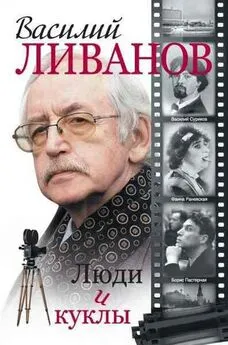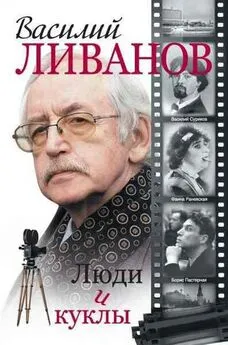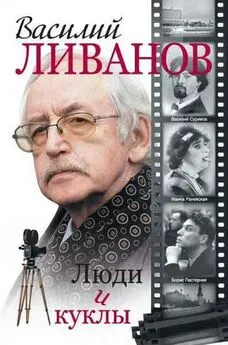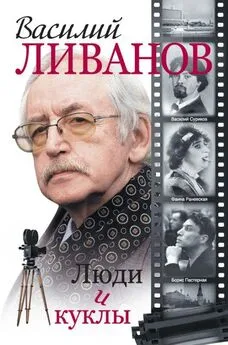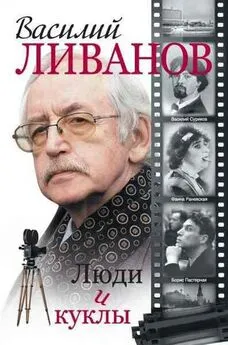Василий Ливанов - Путь из детства. Эхо одного тире
- Название:Путь из детства. Эхо одного тире
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2013
- Город:ACT
- ISBN:978-5-17-077885-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Ливанов - Путь из детства. Эхо одного тире краткое содержание
Перед вами первая книга воспоминаний Василия Борисовича Ливанова. Это удивительный, особой формации человек. Все, кто уже имел счастье прочитать этот текст в рукописи или же удостоились чести слышать отрывки от самого автора признавались, что это невероятная книга, событие в нашей литературе. Мы завидуем вам, дорогой читатель, которому только предстоит совершить «Путь из детства» и услышать «Эхо одного тире».
Путь из детства. Эхо одного тире - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В Варшаве судьба свела его с юной варшавянкой Изабеллой Млынарской. Девушка была не только красива и умна, но и талантлива. Она имела музыкальное образование и увлекалась живописью. Молодые люди полюбили друг друга и вскоре обвенчались. Это произошло накануне известного польского восстания 1863 года. Восстание, начавшееся на подвластных России территориях, было направлено против российского владычества. И мой прадед Генрих, 26-летний художник, оказался среди его участников.
Через год восстание, как и все предыдущие польские восстания, было подавлено, а его участники, по свидетельству историков, многие тысячи человек, были угнаны в Сибирь, кто на каторгу, а кто на поселение.
И здесь я просто обязан рассказать о странном возникновении моего прадеда Генриха в моей молодой жизни.
Это произошло в 1949 году, когда я, четырнадцатилетний юнец, оказался на загородном банкете, который устроил под Киевом полновластный хозяин Украины Никита Сергеевич Хрущев для гастролирующей в театре имени Леси Украинки труппы Московского Художественного академического театра. Когда я очутился в банкетном зале и едва только успел разглядеть своих родителей в многоликом застолье, я заметил рядом с моей мамой какую-то незнакомую мне женщину, которая, указывая на меня, что-то говорила моей маме. Потом эта женщина торопливо встала со своего места, быстро обошла длинный гостевой стол, приблизилась ко мне и… встала на колени!
Кто эта женщина, почему она подошла ко мне и почему встала на колени?
Моему смятению не было предела.
Через несколько минут, когда мы с ней вернулись к местам моих родителей, все объяснилось.
Эта женщина оказалась знаменитой советской писательницей Вандой Василевской. Ее деда, участника восстания 1863 года, гнали по этапу в Сибирь вместе с моим прадедом Генрихом. На каком-то переходе через безграничные земли дед Ванды упал, сломал ногу, не мог не то чтобы идти дальше, подняться не мог. В таком безнадежном положении каторжника конвой мог бы просто пристрелить. Мой прадед Генрих взвалил его на плечи и нес на себе до следующего привала, где пострадавшему все же оказали помощь. А Генрих ушел дальше по этапу.
Дед Ванды, выживший после ссылки, завещал своим детям, а они его внукам, разыскать кого-нибудь из мужчин Правдзиц-Филиповичей, и если отыщут, то встать перед ними на колени в память о его спасении.
В застолье Василевская и моя мама, обе польки, стали вспоминать своих родителей, а когда моя мама назвала свою девичью фамилию, да еще и я тут появился, все и произошло.
Сказать тут можно только одно: «Неисповедимы пути Твои, Господи!»
В 1881 году государь-император Александр III, заняв российский престол, дал полякам, восставшим в 1963 году, амнистию. Но им запрещено было возвращаться в Польшу или селиться в столицах — Москве и Петербурге. У Л. Н. Толстого есть рассказ «За что?», где описана трагическая участь одной амнистированной польской семьи.
Поляков разделили на группы и расселили по разным городам России. Мой прадед оказался в группе польских художников, которую возглавлял художник Зданевич. Этой группе для нового поселения был назначен Тифлис (современный Тбилиси).
Кстати, именно Зданевичу с товарищами принадлежит честь «открытия» Нико Пиросмани как великого художника. Ведь на его родине, в Грузии, Пиросмани, до своей всемирной славы, считался просто талантливым маляром, пьяницей, который за бутылку вина и закуску мог удачно намалевать веселые вывески для местных ресторанчиков.
Думаю, что мой прадед Генрих, проведший в Сибири 17 лет, был там определен на поселение. Такого срока на каторге он бы просто не выдержал.
Изабелле, дочери Антония Млынарского, представителя польского аристократического рода, удалось через 8 лет после высылки Генриха добиться Высочайшего соизволения российского императора Александра II на свидание со своим сосланным мужем.
Так что у наших русских жен декабристов были и польские последовательницы. Вернувшись в Варшаву после свидания с Генрихом, Изабелла в 1873 году родила сына Казимира, моего будущего деда.
Честь и слава им, моим польским предкам, пронесшим через годы испытаний свою Веру, Надежду и Любовь!
Если я не ошибся в подсчетах, то когда они счастливо соединились в Тифлисе, Генриху было 43 года, Изабелле шел 34-й, а сыну Казимиру 9-й год.
Очевидно, Генрих Карлович (так его стали звать в России) кроме живописи увлекался фотографией еще в Польше. Поэтому, оказавшись в Тифлисе, он присмотрел себе помещение и открыл свое фотоателье.
В те времена фотограф обязательно должен был быть художником. Портретные фотографии снимались на фонах, написанных живописцем. Художник-фотограф должен был уметь ставить нужное освещение, советовал, какой костюм или какое платье и какой головной убор лучше всего подойдет для желающих сфотографироваться.
Необходимое ретуширование фотографий тоже требовало художественного умения.
Жизнь на грузинской земле протекала счастливо.
Со временем Казимир окончил в Тифлисе гимназию, часто носил национальный грузинский костюм, свободно говорил по-грузински и по-русски, и, само собой, по-польски. Генрих тоже свободно говорил по-русски: годы, проведенные в Сибири, научили его русской речи. Изабелла старалась мужу и сыну, по возможности, соответствовать.
Я испытываю к Грузии и грузинам чувства, похожие на родственные. И у меня много грузинских друзей, и я всегда находил в них душевный отклик.
Вообще о грузинских связях семьи Ливановых нужно писать отдельно, а сейчас мне хотелось бы вспомнить всего один… нет, два эпизода на тему русско-грузинской дружбы.
Резо Табукашвили как-то внезапно возник в моей жизни, и мне тут же стало казаться, что мы знакомы давным-давно.
Невысокий, худенький мужчина с большой лобастой, лысой головой, неуемно энергичный и искрометно талантливый, Резо был одержим кинематографом. Но и кинематограф Резо понимал исключительно по-своему. То, что называется искусством кино — создание художественных образов, пластическое выстраивание сюжета, Резо абсолютно не волновало.
Кино для Резо было только наиболее подходящим техническим способом для выражения собственных впечатлений, всегда неожиданных и ярких, которыми необходимо охарактеризовать окружающий самого Табукашвили мир.
Резо был счастливым мужем счастливой жены, известной грузинской актрисы, красавицы Медеи Джепаридзе (не путать с Верико Анджепаридзе).
Во время путешествия по Италии Виталий Соломин и я, вместе с нашими женами, поздно вечером оказались в Риме, где туристической группе Малого театра была предоставлена гостиница.
Не успел я войти в номер, как раздался телефонный звонок.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: