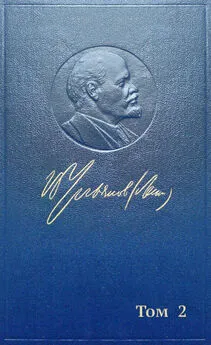Владимир Ленин (Ульянов) - Полное собрание сочинений. Том 2. 1895–1897
- Название:Полное собрание сочинений. Том 2. 1895–1897
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Паблик на ЛитРесеd7995d76-b9e8-11e1-94f4-ec5b03fadd67
- Год:1967
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Ленин (Ульянов) - Полное собрание сочинений. Том 2. 1895–1897 краткое содержание
Во второй том Полного собрания сочинений В. И. Ленина входят произведения, написанные им в 1895–1897 годах.
Полное собрание сочинений. Том 2. 1895–1897 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Итак, Сисмонди не дал абсолютно ничего для теоретического анализа перенаселения. Но как же он смотрел на него? Его взгляд складывается из оригинального сочетания мелкобуржуазных симпатий и мальтузианства. «Великий порок современной социальной организации, – говорит Сисмонди, – тот, что бедный не может никогда знать, на какой спрос труда он может рассчитывать» (II, 261), и Сисмонди вздыхает о тех временах, когда «деревенский сапожник» и мелкий крестьянин точно знали свои доходы. «Чем более бедняк лишен всякой собственности, тем более подвергается он опасности ошибиться насчет своего дохода и содействовать созданию такого населения (contribuer à accroître une population…), которое, не будучи в соответствии со спросом на труд, не найдет средств к жизни» (II, 263–264). Видите: этому идеологу мелкой буржуазии мало того, что он желал бы задержать все общественное развитие ради сохранения патриархальных отношений полудикого населения. Он готов предписывать какое угодно калечение человеческой природы, лишь бы оно служило сохранению мелкой буржуазии. Вот еще несколько выписок, которые не оставляют сомнения насчет этого последнего пункта:
Еженедельная расплата на фабрике с полунищим рабочим приучила его не смотреть на будущее дальше следующей субботы: «в нем притупили таким образом нравственные качества и чувство симпатии» (II, 266), состоящие, как мы сейчас увидим, в «супружеском благоразумии»!.. – «его семья будет становиться тем многочисленнее, чем более она в тягость обществу; и нация будет страдать (gémira) под гнетом населения, не приведенного в соответствие (disproportionnée) с средствами его содержания» (II, 267). Сохранение мелкой собственности во что бы то ни стало – вот лозунг Сисмонди – хотя бы даже ценой понижения жизненного уровня и извращения человеческой природы! И Сисмонди, поговоривши, с видом государственного человека, о том, когда «желателен» рост населения, посвящает особую главу нападкам на религию за то, что она не осуждала «неблагоразумных» браков. Раз только затронут его идеал – мелкий буржуа, Сисмонди является более мальтузианцем, чем сам Мальтус. «Дети, рождающиеся лишь для нищеты, – поучает Сисмонди религию, – рождаются также только для порока… Невежество в вопросах социального строя заставило их (представителей религии) вычеркнуть целомудрие из числа добродетелей, свойственных браку, и было одной из тех постоянно действующих причин, которые разрушают соответствие, естественно устанавливающееся между населением и его средствами существования» (II, 294). «Религиозная мораль должна учить людей, что, возобновив семью, они не менее обязаны жить целомудренно со своими женами, чем холостяки с женщинами, им не принадлежащими» (II, 298). II Сисмонди, претендующий вообще не только на звание теоретика-экономиста, но и на звание мудрого администратора, тут же подсчитывает, что для «возобновления семьи» требуется «в общем и среднем три рождения», и дает совет правительству «не обманывать людей надеждой на независимое положение, позволяющее заводить семью, когда это обманчивое учреждение (cet établissement illusoire) оставит их на произвол страданий, нищеты и смертности» (II, 299). «Когда социальная организация не отделяла класса трудящегося от класса, владеющего какой-нибудь собственностью, одного общественного мнения было достаточно для предотвращения бича (le fléau) нищенства. Для земледельца – продажа наследия его отцов, для ремесленника – растрата его маленького капитала всегда заключают в себе нечто постыдное… Но в современном строе Европы… люди, осужденные не иметь никогда никакой собственности, не могут чувствовать никакого стыда перед обращением к нищенству» (II, 306–307). Трудно рельефнее выразить тупость и черствость мелкого собственника! Из теоретика Сисмонди превращается здесь в практического советчика, проповедующего ту мораль, которой, как известно, с таким успехом следует французский крестьянин. Это не только Мальтус, но вдобавок Мальтус, выкроенный нарочито по мерке мелкого буржуа. Читая эти главы Сисмонди, невольно вспоминаешь страстно-гневные выходки Прудона, доказывавшего, что мальтузианство есть проповедь супружеской практики… некоторого противоестественного порока [76].
IX. Машины в капиталистическом обществе
В связи с вопросом об избыточном населении стоит вопрос о значении машин вообще.
Эфруси усердно толкует о «блестящих замечаниях» Сисмонди насчет машин, о том, что «считать его противником технических усовершенствований несправедливо» (№ 7, с. 155), что «Сисмонди не был врагом машин и изобретений» (с. 156). «Сисмонди неоднократно подчеркивал ту мысль, что не машины и изобретения сами по себе вредны для рабочего класса, а они делаются таковыми лишь благодаря условиям современного хозяйства, при котором возрастание производительности труда не ведет ни к увеличению потребления рабочего класса, ни к сокращению рабочего времени» (с. 155).
Все эти указания вполне справедливы. И опять-таки такая оценка Сисмонди замечательно рельефно показывает, как народник абсолютно не сумел понять романтика, понять свойственную романтизму точку зрения на капитализм и ее радикальное отличие от точки зрения научной теории. Народник и не мог этого понять, потому что народничество само не пошло дальше романтизма. Но если указания Сисмонди на противоречивый характер капиталистического употребления машин были крупным прогрессом в 1820-х годах, то в настоящее время ограничиваться подобной примитивной критикой и не понимать ее мелкобуржуазной ограниченности уже совершенно непростительно.
В этом отношении (т. е. в вопросе о различии учения Сисмонди от новейшей теории) [77]Эфруси твердо остается при своем. Он не умеет даже поставить вопроса. Указавши, что Сисмонди видел противоречие, он этим и удовлетворяется, как будто бы история не показывала самые разнородные приемы и способы критиковать противоречия капитализма. Говоря, что Сисмонди считал вредными машины не сами по себе, а вследствие их действия при данном социальном строе, Эфруси и не замечает, какая примитивная, поверхностно-сентиментальная точка зрения сказывается уже в одном этом рассуждении. Сисмонди действительно рассуждал: вредны машины или не вредны? и «решал» вопрос сентенцией: машины полезны лишь тогда, когда производство сообразуется с потреблением (ср. цитаты в «Р. Б.» № 7, с. 156). После всего изложенного выше нам нет надобности доказывать здесь, что подобное «решение» есть не что иное, как подстановка мелкобуржуазной утопии на место научного анализа капитализма. Сисмонди нельзя винить в том, что он не произвел такого анализа. Исторические заслуги судятся не по тому, чего не дали исторические деятели сравнительно с современными требованиями, а по тому, что они дали нового сравнительно с своими предшественниками. Но мы судим здесь уже не о Сисмонди и не о его примитивной, сентиментальной точке зрения, а об экономисте «Р. Б—ва», который до сих пор не понимает отличия такой точки зрения от новейшей. Он не понимает [78], что для характеристики этого отличия следовало поставить вопрос не о том, был ли Сисмонди врагом машин или нет, а о том, понимал ли Сисмонди значение машин в капиталистическом строе? понимал ли он роль машин в этом строе, как фактора прогресса? И тогда экономист «Р. Б—ва» мог бы заметить, что с своей мелкобуржуазной, утопической точки зрения Сисмонди и не мог поставить такого вопроса и что в постановке и разрешении его и состоит отличие новой теории. Тогда Эфруси мог бы понять, что, заменяя вопрос об исторической роли машин в данном капиталистическом обществе – вопросом об условиях «выгодности» и «пользы» машин вообще, Сисмонди, естественно, приходил к учению об «опасности» капитализма и капиталистического употребления машин, взывал о необходимости «задержать», «умерить», «регламентировать» рост капитализма и становился в силу этого реакционером. Непонимание исторической роли машин, как фактора прогресса, и составляет одну из причин, по которой новейшая теория признала учение Сисмонди реакционным.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: