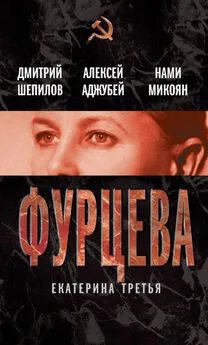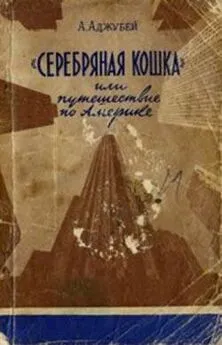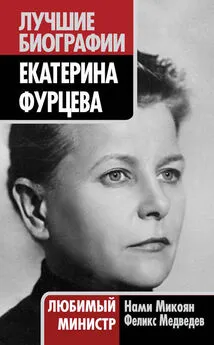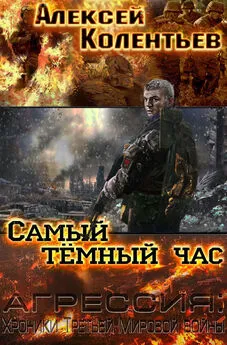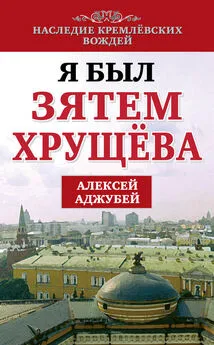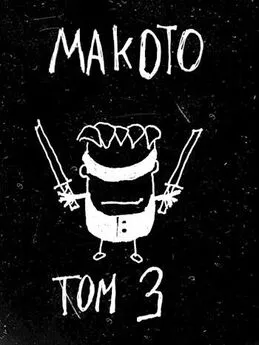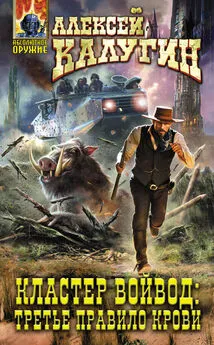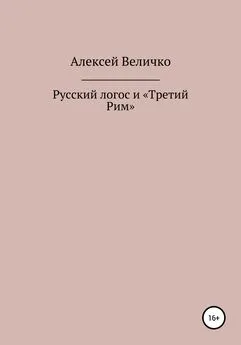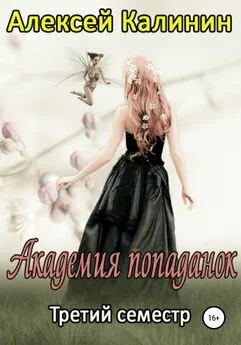Алексей Аджубей - Фурцева. Екатерина Третья
- Название:Фурцева. Екатерина Третья
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алгоритм
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4438-0177-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Аджубей - Фурцева. Екатерина Третья краткое содержание
Екатерина Алексеевна Фурцева занимала высшие посты в советской государственной и партийной системе при Хрущеве и Брежневе. Она была Первым секретарем МГК КПСС, членом Президиума ЦК КПСС, министром культуры СССР. Фурцева являлась своеобразным символом Советского Союза в 1950–1970-х гг., — волевая, решительная, властная женщина, Фурцева недаром получила прозвище «Екатерина Третья».
В книге, представленной вашему вниманию, о личности и политике Екатерины Фурцевой вспоминают известные деятели той поры: Д. Т. Шепилов, Председатель КГБ СССР и заместитель Председателя Совета министров СССР при Хрущеве и Брежневе; А. И. Аджубей, главный редактор газет «Комсомольская правда» и «Известия», зять Хрущева; Н. А. Микоян, писательница и журналист, невестка знаменитого А. И. Микояна.
Фурцева. Екатерина Третья - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Летом 1964 года во время визита Хрущева в Швецию премьер-министр Эрландер заговорил с ним о намерении наградить академика П. Л. Капицу, блестящего советского физика, золотой медалью Шведской академии. Никита Сергеевич воспринял разговор очень нервно. Он прямо сказал Эрландеру, что Советское правительство может воспринять это известие как вызов. «Почему?» — удивился Эрландер. «Многие у нас воспримут это как желание выделить физика, который отказался работать над атомным оружием, поступил непатриотично…»
Эрландер не стал переубеждать Хрущева, да и сделать это было невозможно. При всем том, что Хрущев отыскивал пути к спокойным отношениям между странами и народами, он не смог полностью разрушить сталинской установки недоверия к загранице. «Железный занавес» был поднят, но возле стояли очень бдительные товарищи. Смешно и грустно вспоминать, но замечательная балерина Майя Плисецкая выехала впервые за границу с личного разрешения Хрущева, под его поручительство. В этом случае Хрущев не отреагировал на «сигналы» тех, кто запугивал его возможными последствиями — что, если Плисецкая станет невозвращенкой? Такие вот проблемы решались на самом верху и не без борьбы.
В своих воспоминаниях Никита Сергеевич пишет о многих подобных историях: о выезде за границу пианистов С. Рихтера, В. Ашкенази, о том, что он лично стоял за большие свободы на этот счет. Но вот что примечательно. Рассуждения о своих гуманных решениях он сопровождает такой фразой: «Я шел на большой риск и доказывал коллективу, с которым я работал, что без риска нельзя…» Вот это «доказывал» и «без риска нельзя» многое объясняет в позиции Хрущева, показывает атмосферу, которая тогда в стране существовала…
Хрущев не раз говорил и на больших совещаниях, и в узком кругу, что нельзя допускать идеологической разболтанности, из которой, по его мнению, в общественной жизни могут возникнуть неуправляемые процессы. Он, например, не очень-то ценил эренбурговское определение «оттепель», считал, что иная оттепель может обернуться катастрофическим паводком. Эту позицию Хрущева использовали довольно умело. К 1963 году, когда идеологическая ситуация особенно обострилась, Хрущев был «заведен» до предела. Ему всюду мерещились происки злосчастных абстракционистов, обывательщина, мелкотравчатость. На его мироощущение явно давил внутренний цензор, заставлявший проверять себя: не слишком ли отпущены вожжи, не наступил ли тот самый грозный паводок? В нем жили два человека. Один осознавал, что необходимы здравая терпимость, понимание позиций художника, предоставление ему возможности отражать реальную жизнь со всеми ее действительными противоречиями. Другой считал, что имеет право на окрик, не желал ничего слушать, не принимал никаких возражений.
На выставке в Манеже, посвященной тридцатилетию МОСХа, пояснения Хрущеву давал президент Академии художеств Серов. Я шел в толпе, окружавшей Никиту Сергеевича, слышал, с какими намеренно негативными акцентами говорил Серов о Фальке и некоторых других художниках, впервые за многие годы выставленных явно «для объективности» (а точнее, чтобы «раздразнить», разъярить Хрущева). Так вот, удостоверяю, что, разглядывая картины, Хрущев никаких грубых оценок не давал. Тогда его повели на второй этаж, где в углу небольшого зала сбилась группа абстракционистов. Здесь он не сдержался.
Именно теперь немало желающих вспомнить Хрущева в минуты его раздраженных объяснений с поэтами, писателями, художниками, режиссерами. Казалось бы, критиковать Хрущева было проще в застойные годы, это находило всяческую поддержку. Но, видно, не все хотели тогда подчеркивать свою связь с эпохой XX съезда. Иных вполне устраивало «застойное» личное благополучие. Не потому ли так важно им сегодня напомнить о себе: вот ведь, на меня топал ногами сам Хрущев!
Иногда мне хочется спросить: была бы у нас возможность самых разных воспоминаний, если бы не десятилетие Хрущева? И, с другой стороны, правомерно ли связывать всю сложность, неоднозначность, непоследовательность процессов, начинавшихся в стране после XX съезда, только с теми или иными чертами характера Хрущева?
Зададимся и другим вопросом. А может ли любой человек в том положении, какое дает подобная власть, вовсе избежать ошибок? Когда вам каждый день и каждый час говорят, что любые ваши замечания точны и глубоки, анализ событий верен и научно взвешен, советы дали необычайно быстрый эффект, когда вы засыпаете с мыслью, что высокий пост вечен, а сроки жизни вам постараются продлить всеми способами, — легко ли сохранить чувство самоконтроля?..
Финал
Наступил апрель 1964 года. Отмечалось семидесятилетие Хрущева. Приветствие ЦК, фотографии в газетах и журналах, присвоение звания Героя Советского Союза. Торжественный обед в зале для приемов Кремлевского дворца съездов. К тому времени в начале Ленинградского проспекта на металлической конструкции уже красовался огромный портрет Хрущева во весь рост с поднятой в приветствии рукой. Не помню, но, по-видимому, понизу шла трафаретная фраза типа «Миру — мир».
Славословия в адрес Хрущева становились почти нормой. Было, пожалуй, только одно отличие: без прежних эпитетов — «великий», «мудрый», на «гениальный» не решались даже сверхподхалимы. Портреты появляются не сами по себе, а только по определенной команде. Вырабатывалась, укоренялась установка на возвеличение должности Первого секретаря и его имени. В газетах тоже шло непрестанное цитирование.
Не совестно ли прежде всего мне самому, в те годы редактору большой газеты, не сам ли я приветствовал отход от славословий, не может ли показаться, что я пишу об этом с желанием свалить вину на кого-то? Нет, я вины с себя не снимаю, конечно. Больше или меньше других грешили на этот счет «Известия» — не имеет принципиального значения. Важно иное. Я знаю тех, кто тщательно следил за публикациями и не прочь был обратить внимание на то, что в некоторых важных статьях отсутствовали надлежащие ссылки. Расценивалось это как непочтение, как своего рода политическое небрежение, а иногда и как фрондирование.
Едва не вошла в газетный и политический лексикон стереотипная фраза «в свете советов и указаний», но она зрела, «обкатывалась» и появилась, как известно, в определенный час.
Кстати, тот самый товарищ, который не прочь был отмечать отсутствие в статьях ссылок на высказывания Хрущева, сам чуть позже, в октябре 1964 года, с бухгалтерской точностью подсчитал, сколько раз в той или иной газете это имя упоминалось. И ставил, конечно, данное обстоятельство в вину редакторам. Редактору «Известий» прежде всего. Не называю этого человека только потому, что он сполна разделил судьбу тех перевертышей, страсть которых к политическим интригам привела их к поражению. Победители не ценят перебежчиков, даже если в них и возникает нужда. И еще: мне жаль этого человека. Его ценил Никита Сергеевич. Он занимал высокие посты и, наверное, мог бы по-иному распорядиться своей судьбой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: