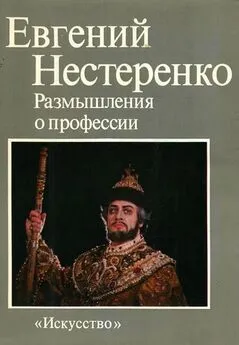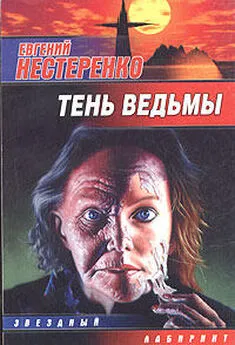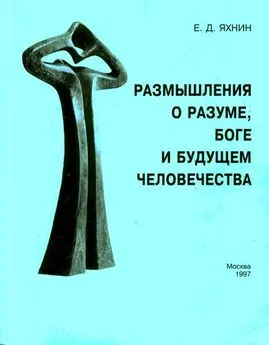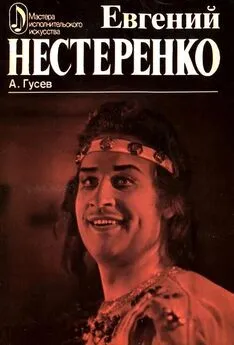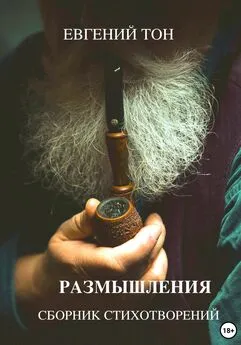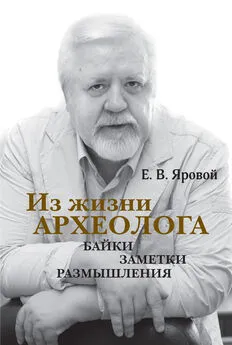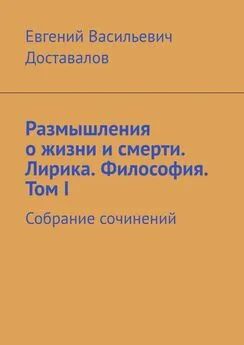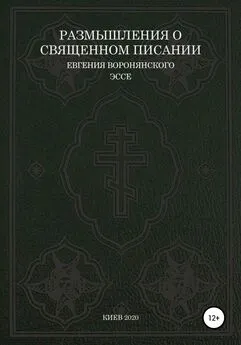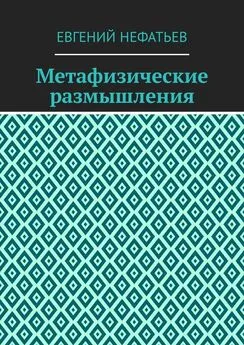Евгений Нестеренко - Размышления о профессии
- Название:Размышления о профессии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Искусство
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Нестеренко - Размышления о профессии краткое содержание
Книга народного артиста СССР, лауреата Ленинской премии, профессора Е. Е. Нестеренко рассказывает о работе певца-актера, о своеобразии этой сложной профессии. Автор вспоминает о своих творческих встречах со многими крупными советскими и зарубежными композиторами, режиссерами, дирижерами и исполнителями. Большой раздел в книге посвящен педагогике.
Размышления о профессии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Глава вторая
Работая над образом моего героя, я пою свою партию, слушаю музыку и стараюсь понять развитие чувства и мысли персонажа, извлечь из слов и музыки его душевное состояние. Я как бы ищу зашифрованное в музыке видение композитором-драматургом того образа, который мне предстоит создать. Именно музыка чаще всего дает мне все нужное и для пластического решения образа.
Когда в опере «Иоланта» король Рене впервые выходит на сцену, звучит энергичная, властная музыка. Я же на первых репетициях исходил не из музыки, а из текста, на основании которого король представлялся мне человеком пожилым, угнетенным своим огромным горем и пассивно надеющимся на помощь мавританского врача Эбн-Хакиа. Потом вдруг я услышал эту музыку — она почему-то раньше проходила мимо меня. В ней я нашел ключ ко всему образу — это решительный, властный, упрямый в своих заблуждениях человек, человек благородный, сильный и энергичный, которого нелегко сломить даже в горе, но не так-то легко и заставить его изменить свой взгляд на болезнь Иоланты. Музыка дала мне основу характера героя, его осанку, походку, манеру разговаривать. Потом уже, отталкиваясь от этого, я стал искать краски более тонкие, более разнообразные. Теперь я мог показать и сомнения Рене, и его слабость, и всплеск его упрямства и властности. Таких примеров можно привести много.
Искусство пения связано со словом, с литературной первоосновой оперного или камерного произведения. Должен ли певец в своей работе интересоваться драмой, романом, стихотворением, вдохновившим композитора на создание оперы или романса?
Давно известно, что попытки поставить оперу, опираясь на литературный первоисточник, не приносят положительных результатов. Мы знаем о постановке «Пиковой дамы» В. Э. Мейерхольдом, где он отталкивался от пушкинской повести, нам известен целый ряд постановок или актерских работ, в которых именно литературная основа произведения являлась стержнем для создания режиссерской интерпретации спектакля или актерской интерпретации образа. Но даже самые удачные работы подобного рода все-таки подтверждают вывод: на сцене оперного театра или концертного зала интерпретируется не литературная первооснова оперы или стихотворение, а музыкальное произведение, созданное по мотивам произведения литературного или вдохновленное им.
Ярким примером может служить опера Глинки «Руслан и Людмила». Все мы с детства знаем юношескую поэму Пушкина, восхитительную сказку, знаем ее персонажей, и многие слушатели, особенно юные, приходят в оперный театр, чтобы услышать и увидеть в музыкальной интерпретации то, что они читали. Однако, если внимательно всмотреться в два тома — книгу Пушкина, где напечатан «Руслан и Людмила», и партитуру оперы Глинки, — можно увидеть, что произведения эти весьма и весьма различны. От поэмы Пушкина веет озорным духом, автор с улыбкой, порой иронично относится к своим героям. У Глинки все всерьез. У Пушкина мы видим Киевскую Русь уже христианскую, у Глинки — Русь языческая, с языческими богами — Перун, «Лель таинственный». И это различие чрезвычайно важно. Б. А. Покровский при постановке «Руслана и Людмилы» в 1972 году в Большом театре подчеркнул, высветил это различие, дал новую, очень свежую интерпретацию гениального сочинения основоположника русской музыки.
В опере Глинки пушкинские стихи перемежаются со словами либреттистов, создававших основу оперы. Скажем, ария Руслана начинается словами Пушкина, а вторая, быстрая часть — уже не пушкинский текст. Персонажи поэмы Пушкина не всегда соответствуют героям оперы: у Пушкина отец Людмилы — князь Владимир, у Глинки — Светозар, в пушкинском произведении нет Гориславы, зато есть Рогдай.
Или обратимся к «Борису Годунову» Модеста Петровича Мусоргского, который сам писал либретто своих опер. Конечно, литературные достоинства либретто великого создателя народных музыкальных драм и литературные достоинства либретто «Руслана и Людмилы», в составлении которого принимали участие В. Ширков и М. Глинка, а также Н. Маркевич, Н. Кукольник и М. Гедеонов, различны. Мусоргский был одареннейшим литератором. Его оперные либретто, тексты ряда произведений, таких, как «Раёк», «Светик Савишна», «Сиротка», «Озорник», «Семинарист» и другие, так же как и его письма, говорят об огромном литературном таланте гениального композитора. И в тексте оперы «Борис Годунов» не найти стилистических шероховатостей или просто резких несоответствий в классе текста, если можно так выразиться. Тем не менее, сравнивая либретто Мусоргского с «Борисом Годуновым» Пушкина, мы видим два различных произведения.
Вспомним романс Петра Ильича Чайковского на слова Алексея Константиновича Толстого «Средь шумного бала». Если б мы просто читали стихотворение Толстого, то могли бы интерпретировать его как стихотворение о первой встрече, о зарождении большой любви. Мы знаем об отношениях Толстого с Софией Андреевной Миллер, которую он любил и которую воспел в стихотворении. Знаем, что это была прекрасная, чистая любовь. Помня обо всем этом, стихотворение можно прочитать радостно, с надеждой и без какой-либо тени грусти. Правда, там есть слова: «…я вижу печальные очи…» или «…и грустно я так засыпаю…», но в этих словах не так уж много печали и грусти. «Грустно засыпаю» — потому что человек находится в разлуке с любимой, «печальные очи» — оттого, что у Софии Андреевны Миллер всегда был печальный взгляд, даже когда она смеялась. В стихотворении ничто не дает основания для грустного «способа» интерпретирования. Иногда романс «Средь шумного бала» так и поют, передавая пылкую юношескую влюбленность.
Посмотрим, однако, что хотел выразить этим произведением Чайковский. В начале романса мы видим композиторскую ремарку «con tristezza», то есть «с грустью». И эта пометка предопределяет характер исполнения романса. Но даже если б такого указания не существовало, сама музыка — как бы издалека доносящийся вальс, а может быть, воспоминание о вальсе, — минорная тональность, интерпретирование стихов, предложенное композитором, — все говорит о том, что человеком овладела грусть. Это не печальный, но подернутый налетом грусти монолог. Я вижу в этом романсе некоторое сходство с «Гранатовым браслетом» А. И. Куприна. Здесь нет того трагизма, которым проникнут рассказ замечательного русского писателя. Но любовь, которой живет человек и которая делает его счастливым, и вместе с тем любовь безответная, на расстоянии, благородство и возвышенность чувства сближают образы героев этих двух произведений.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: