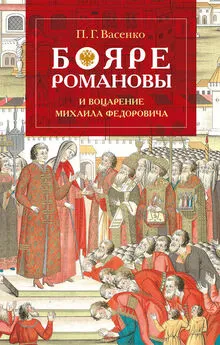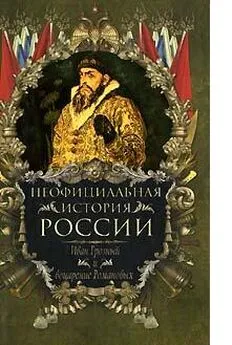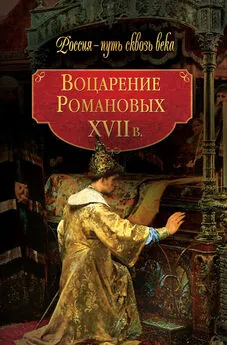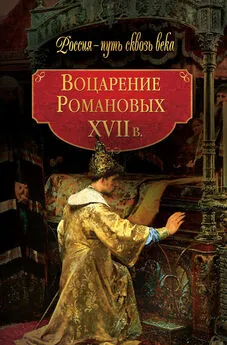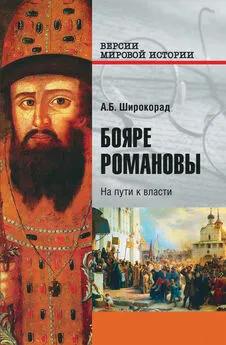Платон Васенко - Бояре Романовы и воцарение Михаила Феoдоровича
- Название:Бояре Романовы и воцарение Михаила Феoдоровича
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Кучково поле»b717c753-ad6f-11e5-829e-0cc47a545a1e
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9950-0317-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Платон Васенко - Бояре Романовы и воцарение Михаила Феoдоровича краткое содержание
Книга известного русского историка Платона Григорьевича Васенко, выпущенная Комитетом по устройству празднования 300-летия Дома Романовых в 1913 г., переиздается впервые. Это, пожалуй, первое научное исследование по генеалогии Романовых, имеющее известное значение до настоящего времени; главное достоинство книги – строгий научный взгляд.
Автор начинает книгу с рассмотрения происхождения родоначальника династии – Андрея Кобылы, "ближнего боярина" великого князя Симеона Гордого и родоначальника боярских родов Шереметевых и Колычевых. Завершается книга окончанием Смутного времени и первыми предприятиями правительства Михаила Федоровича Романова. В книге использованы иллюстрации первого издания.
Издание предназначено для специалистов по исследованию генеалогии, историков, преподавателей, аспирантов, и всех, интересующихся русской историей.
Бояре Романовы и воцарение Михаила Феoдоровича - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Любопытно выяснить то настроение, которое господствовало в Москве незадолго до созвания собора. Новый летописец сообщает нам по этому поводу известие, что захваченный в одном из подмосковных боев «смольянин Иван Философов» был подвергнут допросу: «Хотят ли взять королевича на царство, и Москва ныне людна ли, и запасы в ней есть ли?». Ему же, – продолжает летописец, – даде Бог слово, что глаголати, и рече им: «Москва людна и хлебна, и на то все обещахомся, что всем помереть за православную веру, а королевича на царство не имати». Когда же польский отряд, напуганный словами Философова, поспешно отступил от Москвы, пленник был допрошен самим королем и панами радными. «Он же не убоялся ничего, тож поведаша королю и паном радным» 279. В рассказе Нового летописца о Философове нельзя видеть, как это сделал С. Ф. Платонов в своей интереснейшей статье «Московское правительство при первых Романовых», «эпической редакции» показаний смоленского сына боярского 280. В настоящее время мы знаем, что еще в самом 1612 году князьям Трубецкому и Пожарскому слова Философова известны были приблизительно в том же освещении. «Они взяли, – пишут про поляков Трубецкой и Пожарский в Осташков в декабре 1612 года, – также несколько пленных из наших, между ними одного смоленского боярина 281, Ивана Философова по имени, который разсказал врагу о том, как мы оклялись между собой, что мы будем считать всех польских и литовских людей за наших отъявленных, вечных врагов, а также отказались от его сына со всеми прочими. И когда король узнал, что он ничего не может сделать ни хитростью, ни силой, снова он должен был уйти назад со всем своим войском» 282. Таким образом, сообщения Нового летописца совпадают в общем с официальными сведениями 1612 года и, вероятно, на них основываются. На чем же были основаны сведения московских военачальников? Не знаем в точности, на чем, но лично убеждены, что на показаниях самого Философова. Он, по-видимому, был отпущен или бежал из плена и, явившись в Москву, подал «сказку» о своем невольном пребывании у врагов и о своих речах полякам, причем придал им благоприятный для себя смысл.
Однако в настоящее время мы имеем другую версию показаний Философова и, думаем, гораздо более близкую к тому, что действительно говорил этот смолянин, сын боярский, очутившись в польском плену. Как свидетельствует донесение князя Даниила Мезецкого и дьяка Ивана Грамотина, служивших в то время Речи Посполитой, королю Сигизмунду и сыну его Владиславу, русские люди затеяли с посланными польского короля «задор и бой» 283. «И на том бою, – доносили Мезецкий и Грамотин, – взяли смольянина, сына боярского Ивана Философова, а в роспросе, господари, нам и полковником сын боярский сказал, что на Москве у бояр, которые вам великим господарям служили и у лучших людей хотение есть, чтоб просити на государство вас, великаго господаря королевича Владислава Жигимонтовича, а именно де о том говорить не смеют, боясь казаков, а говорят, чтобы обрать на господарство чужеземца, а казаки де, господари, говорят, чтобы обрать кого из русских людей, а примеривают Филаретова сына и воровскаго Калужскаго. И во всем де казаки бояром и дворяном сильны, делают, что хотят. А дворяне де и дети боярские разъехалися по поместьям, а на Москве осталось дворян и детей боярских всего тысячи с две, да казаков полпяты тысячи человек, да стрельцов с тысячу человек, да мужики, чернь. А бояр де, господари, князя Федора Ивановича Мстиславскаго с товарищи, которые на Москве сидели, в думу не припускают, а писали об них в городы, ко всяким людям, пускать их в думу или нет? А делают всякие дела князь Дмитрий Трубецкой, да князь Дмитрий Пожарский, да Куземка Минин. А кому вперед быти на господарстве того еще не постановили на мере» 284.
Приведенное показание Философова очень интересно. В нем много фактического материала и ценных указаний. Правда, можно не вполне верить тому, чтобы «у лучших людей» было «хотение» избрать Владислава 285. По крайней мере, другой современник описываемых событий, Богдан Дубровский, посылавшийся новгородцами в Москву для переговоров относительно избрания Карла-Филиппа, утверждал нечто иное. Он рассказал в ответ на расспросы шведского вождя Делагарди, что «они (бояре) также предписали в это время созыв собора в Москве для выбора великого князя, и все они будут желать его княжескую милость герцога Карла-Филиппа, и потому хотят обсудить, кого отправить послами на встречу его княжеской милости, если его княжеская милость сюда затем приедет. Потому что они откровенно сказали, что должны добиться мира и помощи с этой стороны, так как не могут держаться против войск и Швеции, и Польши сразу» 286. Нельзя, разумеется, отрицать существования среди русских людей того времени, и в особенности в высших слоях народа, некоторых и, быть может, даже очень влиятельных лиц, склонных по тем или иным соображениям к избранию польского или шведского королевича. Но, несомненно, такие люди были в меньшинстве, и показания Философова и Дубровского продиктованы, скорее всего, желанием сказать что-нибудь приятное полякам и шведам и уклониться от истины, тем более что в сношениях с иноземцами московские люди позволяли себе всякие хитрости и притворство.
Зато другие показания Философова могут быть вполне приняты. Действительно, все дела в Москве «делали» указанные Философовым руководители и вожди ополчения и земли. А Мстиславского «с товарищи» «в думу припустили» лишь тогда, когда избрание Михаила Федоровича было предрешено на соборе 287. Относительно числа казаков, дворян и детей боярских в конце ноября в Москве любопытно сопоставить показания Философова со сведениями Дубровского. Последний говорит, что из четырех тысяч бояр (то есть служилых людей) «большая часть была отпущена на некоторое время по своим поместьям и в города, где можно дешево покупать себе пропитание», а число «лучших и старших» казаков определяет в одиннадцать тысяч человек 288. Если принять во внимание, что многие казаки сейчас же по очищении Москвы должны были стать по разным городам для оберегания земли от врагов, то можно примирить оба показания; впрочем, мы поступим осторожнее, приняв первое 289.
Но самым важным для нас является показание Философова об отношении казачьей массы к вопросу о царском избрании. Надо сказать, что эта масса особенно националистична. Она желает выбрать в цари русского человека. При этом казаки намечают или, говоря языком того времени, «примеривают» двух кандидатов: Филаретова сына и воровского Калужского. Такое сочетание, на первый взгляд, является неожиданным. Попытаемся его понять. «Воренка» могли намечать казаки потому, что служили его отцу, Вору. Но был ли для них Тушинский вор тем, чем он является в наших глазах и был в глазах его противников? Конечно, ближайшие сторонники второго самозванца знали настоящую цену «царю Дмитрию Ивановичу» 290. Но в глазах рядовой массы его приверженцев Вор был подлинным сыном Грозного. Неудивительно, что и в 1612 году среди его бывших сторонников было еще много лиц, веривших в его царственное происхождение. Потому-то естественно, что нашлись казаки, и, вероятно, большая группа, выдвигавшие кандидатуру «Маринкина сына» не из одного только «казацкого приличия». Но единение с земщиной, фильтрация казачества, приведшая к тому, что в нем остались лишь «старые казаки», среди которых были, вероятно, и беспоместные дети боярские, влияние воззваний Гермогена и грамот вождей земского ополчения, обличавших самозванство Вора, сделали свое дело 291. Кто же тогда мог быть выдвинут народной массой, выразителями мыслей и идей которой являлись в значительной мере казаки? Родство Романовых с прежней династией, мысль о котором и была, и поддерживалась в народе, сыграла, думается нам, решающую роль при этом. Таким образом и возникла среди казаков мысль о двух кандидатах. Мы уверены в том, что казачество раскололось по этому вопросу на две группы, причем партия сторонников Михаила Федоровича была, вероятно, многочисленнее. По крайней мере, он назван первым в показании Философова. Притом же наиболее рьяные сторонники Вора ушли из-под Москвы с Заруцким и перекинулись затем на юго-восток, где и утвердились на некоторое время 292.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: