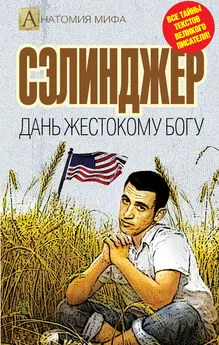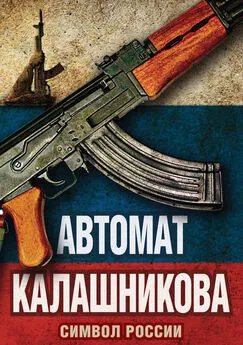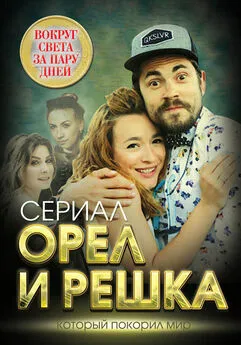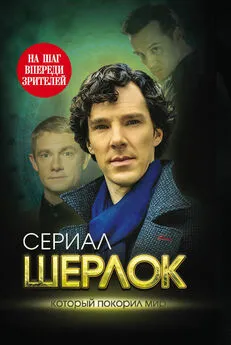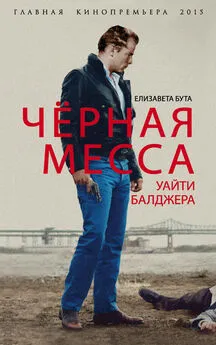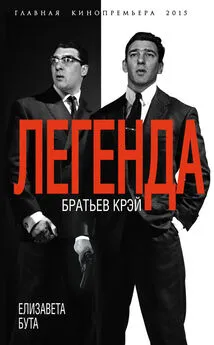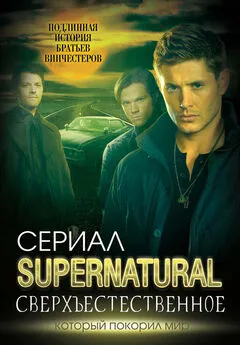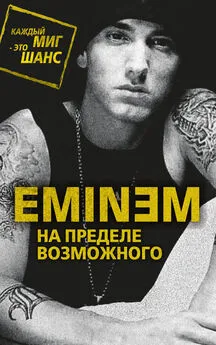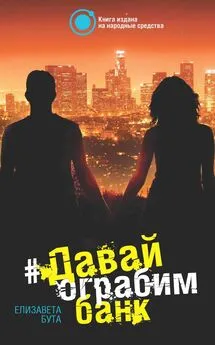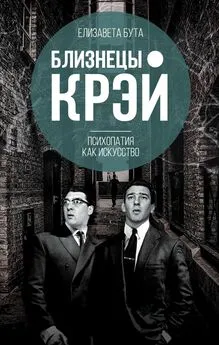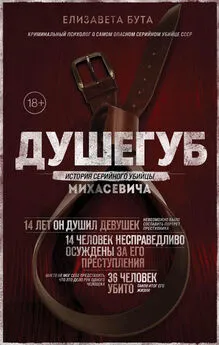Елизавета Бута - Сэлинджер. Дань жестокому Богу
- Название:Сэлинджер. Дань жестокому Богу
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4438-0905-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елизавета Бута - Сэлинджер. Дань жестокому Богу краткое содержание
Роман Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи» впервые был опубликован в 1951 году – и с тех пор остается одновременно одним из самых читаемых и самых запрещаемых произведений мировой литературы. И одних из самых загадочных. В нем искали – и находили – призывы к насилию, чрезмерную жестокость, развращенность и прочие признаки «растлевания молодежи». Никого не волновало то, что хотел сказать автор. Все старались найти скрытые смыслы и тайные послания самого Текста.
Через 15 лет, 19 июня 1965 года, было опубликовано последнее произведение Сэлинджера «Хэпворт 16, 1924». После чего Сэлинджер, устав от нападок прессы, на многие десятилетия ушел в тень. Он больше не давал интервью и не публиковался. Возможно, именно в этой повести Сэлинджер дал ответы и на те вопросы, которые он сам задавал себе и своим читателям, и на те, которые ему задавали критики. Возможно, этой повестью Сэлинджер закончил главный поиск своей жизни – поиск Бога, – поэтому больше ничего и никогда не писал.
В книге, которую вы держите в руках, известный филолог, специалист по творчеству Сэлинджера Ирина Галинская раскроет все загадки его текстов. Историк религии Борис Фаликов проведет параллели между жизнью и творчеством писателя. Писательница Юлия Беломлинская расскажет о своем опыте чтения Сэлинджера. Писатель и религиозный деятель Борис Кутузов поведает о христианских аспектах творчества писателя, расскажет о том, каков же он, Бог Сэлинджера…
Сэлинджер. Дань жестокому Богу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Такова нехитрая, на первый взгляд даже банальная ситуация рассказа «И эти губы, и глаза зеленые». Но почему же он сразу вошел в антологию лучших американских произведений этого жанра? Разумеется, благодаря тому, что своей жизненностью, художественным совершенством хватает, как говорится, читателя за душу. Банальный сюжет опять-таки вовсе не противоречит установкам теории «дхвани-раса». «Сообразность с общеизвестным – вот высшая тайна расы» [131], – писал Анандавардхана.
Подытожим наши наблюдения в области поэтики рассказа «И эти губы, и глаза зеленые». Во-первых, «настроение любви», согласно «правилу соответствия», не расцветает в нем полностью, а во-вторых, в композиции сюжета четко выстроены все обусловленные комплексом «раса»-7 вспомогательные психические состояния персонажей: возбуждение, тоска, ощущение страха, тревоги и предчувствие чего-то неприятного.
Для воссоздания в художественном произведении поэтического настроения отвращения в традиционной индийской поэтике существовало еще несколько менее важных рекомендаций: разрешалось употребление неприятных для слуха слов; считалось, что «раса»-7 «высвечивается», «освещается» [132]в тексте также благодаря фонемам «ш», «с» в сочетании с «р», «дх»; признавалось целесообразным доминирование темно-синего цвета.
И снова-таки, как во всех предыдущих случаях, Сэлинджер эти рекомендации соблюдает: в рассказе многократно встречаем неблагозвучные слова «ash» (пепел) и «ashtray» (пепельница) – Джоан и ее любовник беспрерывно курят, и вся постель усыпана пеплом; весь текст пронизывают бесчисленные сочетания согласных типа «грхд», «штр» и др. (так, слово «gray-haired» – седовласый – употреблено более тридцати раз); уже в начале новеллы сказано, что глаза у Джоан темно-синие (почти фиолетовые), и потом сообщение об их цвете настойчиво сопровождает читателя на протяжении всего текста.
Остается разъяснить лишь «темное место» новеллы, о котором мы упоминали в начале главы. Название рассказа «И эти губы, и глаза зеленые» – строка из стихотворения, напоминавшего Артуру о Джоан. И вместе с тем на протяжении всего текста подчеркивается, что глаза у Джоан синие. С позиций санскритской поэтики этот феномен объясняется очень просто. В английском языке и в переводе на русский здесь исчезла игра слов, а последняя – один из самых распространенных художественных приемов древнеиндийской литературы. Но прежде чем пояснить игру слов «зеленый – синий», следует заметить, что в санскритской литературе данный прием строился, в отличие от европейской, не на каламбуре, а на свойственной санскриту многозначности слова, полисемии. Игра слов «глаза зеленые – глаза синие» понятна читателю, знакомому с санскритом, ибо там оба эти цвета обозначались одним словом – «нила». Использована же эта игра слов Сэлинджером, на наш взгляд, в качестве криптограммы [133].
«Голубой период де Домье-Смита»
Тридцатидвухлетний художник, чьи сознательные детские годы и ранняя юность прошли в Париже, вспоминает не совсем обычный эпизод из своей жизни, относящийся к 1939 г., когда ему было девятнадцать лет, и он после смерти матери вернулся с отчимом в Нью-Йорк. Американская жизнь казалась ему чужой и враждебной, а окружающие люди вызывали неистовое раздражение. В Нью-Йорке юноша живет с отчимом в дорогом отеле и посещает художественную школу. Как-то он прочел в одной квебекской газете объявление: дирекция заочных курсов живописи «Любители великих мастеров» в Монреале приглашает на работу квалифицированных преподавателей с безукоризненной репутацией, знающих английский и французский языки. Директор курсов месье Йошото, бывший член Императорской академии изящных искусств в Токио, предлагает желающим срочно прислать на его имя заявления и образцы работ. Юноша решает, что лучшего кандидата, чем он, не найти, и немедленно посылает заявление, в котором в числе целого ряда выдуманных фактов своей биографии сообщает, что зовут его Жан де Домье-Смит, что Пабло Пикассо – давний друг его семьи, а сам он известнейший во Франции художник. к концу недели пришел положительный ответ от месье Йошото, и радостно взволнованный де Домье-Смит телеграфирует (за счет отчима, конечно), что выезжает в Монреаль.
На перроне в Монреале его встретил маленького роста японец с непроницаемым выражением лица. А юный Домье-Смит от радости улыбался до ушей, причем никак не мог ни пригасить, ни тем более стереть эту улыбку. Ехать до курсов, которые помещались на втором этаже унылого неухоженного домика в самом неприглядном районе Монреаля, пришлось довольно долго. Школа находилась прямо над магазином ортопедических принадлежностей.
Когда месье Йошото и его новый сотрудник вошли в помещение школы – одну большую комнату с крохотной незапиравшейся уборной, их встретила крупная седовласая дама, похожая скорее на малайку, чем на японку, которая подметала в помещении пол. Это была мадам Йошото, а весь персонал школы, как оказалось, состоит из японо-малайской четы и их нового сотрудника.
Работа заключалась в том, чтобы вносить поправки в присланные десятком заочников рисунки и отсылать их обратно со своими замечаниями. Среди рисунков, которые месье Йошото поручил поправить Домье-Смиту, оказалась работа монахини – сестры Ирмы, выказавшей недюжинные художественные способности и даже талант. Юноша приходит в величайшее воодушевление и всю ночь напролет пишет сестре Ирме длиннейшее письмо, в котором не только хвалит ее работу, но и предлагает встретиться с нею лично. Он отправляет письмо, «буквально ошалев от радости» [134].
Внеслужебные часы он проводил в центре Монреаля и старался питаться в местных кафе, так как не вполне чистоплотная малайско-японская стряпня мадам Йошото, как и привычка супругов беседовать за едой по-японски, наводила на рассказчика немыслимую тоску. В ожидании ответа от сестры Ирмы жизнь казалась юному художнику столь же беспросветно унылой, как витрина ортопедического магазина. Последняя представлялась ему садом, в котором растут одни эмалированные горшки, подкладные судна и бандажи для больных грыжей. Но ответ от сестры Ирмы так и не пришел. Вместо него месье Йошото вручил вскоре своему юному коллеге письмо, полученное от настоятельницы монастыря, доводившее до сведения главы курсов «Любители великих мастеров», что сестре Ирме дальнейшие занятия на этих курсах запрещаются. Домье-Смит в отчаянии пишет сестре Ирме снова, но так письма и не отправляет, ибо его неожиданно посетило мистическое озарение, изумление, откровение. Случилось это вечером у витрины магазина ортопедических принадлежностей. В окне горел свет, и молодая женщина меняла бандаж на манекене. «И вот тут-то оно и случилось. Внезапно (я стараюсь рассказать это без всякого преувеличения) вспыхнуло гигантское солнце и полетело прямо мне в переносицу со скоростью девяноста трех миллионов миль в секунду. Ослепленный, страшно перепуганный, я уперся в стекло витрины, чтобы не упасть. Вспышка длилась несколько секунд. Когда ослепление прошло, девушки уже не было, я в витрине на благо человечеству расстилался только изысканный, сверкающий эмалью цветник санитарных принадлежностей. Я попятился от витрины и два раза обошел квартал, пока не перестали подкашиваться колени. Потом, не осмелившись заглянуть в витрину, я поднялся к себе в комнату и бросился на кровать. Через какое-то время (не знаю, минуты прошли или часы) я записал в дневник следующие строки: «Отпускаю сестру Ирму на свободу– пусть идет своим путем. Все мы монахини» [135].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: