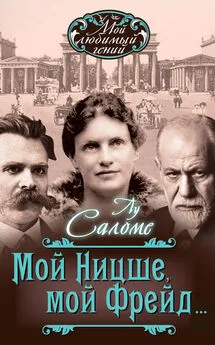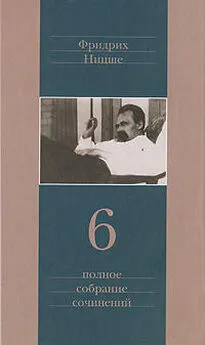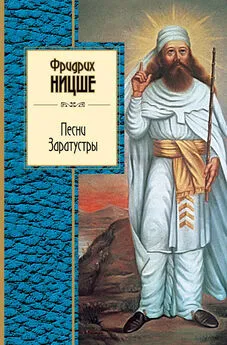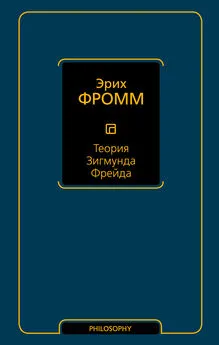Лу Саломе - Мой Ницше, мой Фрейд… (сборник)
- Название:Мой Ницше, мой Фрейд… (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906842-53-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лу Саломе - Мой Ницше, мой Фрейд… (сборник) краткое содержание
Лу Андреас-Саломе (1861–1937) – одной из самых загадочных женщин конца тысячелетия. Автор нашумевшего трактата «Эротика», она вдохновила Ницше на создание его «Заратустры», раскачала маятник творчества раннего Рильке, оказалась идеальным собеседником для зрелого Фрейда. «Сивилла нашего духовного мира», по мнению одних, «жадная губка, охочая до лучистых ежей эпохи», по отзывам других, Лу Саломе «словно испытывала на эластичность границу между мужским и женским началом… Она отважно режиссировала свою судьбу, но тень роковой душевной бесприютности следовала за ней по пятам». Кто же она? Кем были для нее Ницше, Рильке и Фрейд? Об этом она поведает вам сама.
Мой Ницше, мой Фрейд… (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сходная опасность возникала, когда тебе не удавалось найти окончательный вариант, нужное слово: тогда все кончалось не разочарованием, не подавленностью, не упреками самому себе, а невиданным, чудовищным взрывом эмоций – точно тебе хотелось, чтобы они целиком захватили тебя, почти так же, как бывало в блаженном порыве вдохновения. Ты называл это продуктивностью, которую страх направил по ложному следу, своего рода рожденной отчаянием заменой точной формулировки, которая тебе не далась.
Мы совершенно забыли об этом и недели безмятежного счастья, которое сопровождало нас, как молитвы из «Часослова», одаряя несказанной радостью и благоговением. Но потом снова начались приступы страха и телесных болезней. Невольно возникало предположение: то, что искало в тебе выхода, уже не удовлетворялось только эмоциональными проявлениями, а услужливо воспринималось телом – чтобы довести до взрывоопасного предела, до чрезмерности, до элементарной судороги. Ты с ужасом чувствовал за этим действие необъяснимых, чреватых болезнью причин.
Тогда и речи не было о том, что из молитв может возникнуть теперешний «Часослов» – произведение, предприятие, которое несло в себе славу поэта: мы считали его публикацию недопустимой. Но что-то должно же было произойти, чтобы спасти тебя от внутреннего разлада, устранить противоречие между молитвенным восприятием Бога и его поэтическим воплощением. Осложняющим дело обстоятельством было, видимо, то, что прорыв в царство поэзии, чересчур непосредственный по причине колоссальности объекта, одновременно должен был обрести и соответствующее мастерство, к которому ты в ином случае мог бы идти годами, и каждый предмет окружающей действительности не требовал бы от тебя такого напряжения и спешки. Мы уже тогда говорили о том, что тебе следовало поставить в центр своей поэзии мир и человека, а не символ, в котором ты хотел непосредственно и торжественно воплотить мечту о невыразимом. Но только в конце нашей второй поездки в Россию мне стала до конца ясна настоятельная необходимость твоего выбора. Я тогда уехала – совсем ненадолго, – чтобы проведать своих родных на даче (которую они часто меняли) в Финляндии, и там меня нашло твое письмо, в котором ты – вследствие высоких притязаний своих молитв – представал человеком почти порочным. Правда, вскоре пришло второе письмо, написанное в иной тональности, но опять с той чрезмерной экзальтацией, которую ты давно уже с улыбкой назвал «довольфратсхаузеновской» и которая показалась мне необъяснимым возвратом к старому.
Это тем более меня беспокоило, что мои самые сокровенные ожидания новая встреча с Россией выполнила, и я радостно готовилась к неизменно выпадавшим на мою долю жизненным испытаниям. У меня это получилось без каких бы то ни было усилий, в то время как ты ради достижения своей цели прошел через глубочайшие потрясения. Никогда не осознавала я с такой ясностью, из каких бездонных глубин вырастала твоя зрелость. Никогда не восхищалась я так твоим величием: тяжесть твоей внутренней проблематики влекла меня к тебе, и это влечение никогда не ослабевало. Но тебе надо было торопиться, тебя тянуло к свободе и простору, к тому развитию, которое тебе еще предстояло.
И все же, все же: разве в то же время какая-то сила не отрывала меня от тебя?.. От реальности твоего дебюта, в которой мы были как бы единым целым? Разве может кто-либо объяснить загадку сближения и отдаления? В моей заботливо страстной близости к тебе не было того, что связывает мужчину с женщиной, и никогда со мной не бывало по-другому. Это неприкасаемо изолировано от всего, что осталось и что будет жить и расти вплоть до твоего, вплоть до моего смертного часа.
Я ничего не хочу приукрашивать. Сжав голову ладонями, я мучительно пыталась тогда разобраться в себе самой. И была глубоко поражена, когда однажды в старом потрепанном дневнике, почти ничего не говорившем о жизненном опыте, прочла обнаженно-честную фразу: «Я всегда буду верна воспоминаниям, но людям – никогда».
Расставаясь, мы сочли необходимым дать обет, что не будем в письмах следовать нашей привычке быть абсолютно откровенными друг с другом, разве что в час крайней нужды. Жизнь моя складывалась так, что такое тотальное единение было еще невозможнее, чем в предшествующие годы.
Часы такой крайней нужды наступили для тебя в Париже, когда за героическое принуждение к «toujours travailler», вызванное примером избавителя Родена, ты поплатился тем, что все вещи в твоих глазах расплывались, точно призраки, в мертвящей беспредельности – как уже наметилось в России по причине скопления нереализованных творческих замыслов. Но, невзирая на страхи, ты творчески воссоздавал состояние мучительной тревоги. Из твоего литературного наследства в руки мне попалось мое письмо к тебе, в котором я выражаю свою радость по этому поводу. Но и теперь меня все еще волновали не твои произведения, которые затем последовали, а то, удастся ли тебе избавиться от внутреннего разлада. Ты и сам долго сомневался, прежде чем согласиться с обоснованным желанием твоего издателя опубликовать «Часослов».
Рукопись лежала у меня, и это стало поводом нашей первой после расставания встречи: в гёттингенском «Луфриде», названном так по надписи на нашем флаге, развевавшемся над крестьянским домиком в Вольфратсхаузене.
Я и сейчас вижу, как ты лежишь, растянувшись, на огромной медвежьей шкуре перед открытой балконной дверью, и на твоем лице отражается игра света и тени от шевелящейся листвы.
Райнер, это был наш Троицын день 1905 года. Он был им еще и в другом смысле, чем ты в своем умилении догадывался. Мне он казался вознесением поэтического произведения над поэтом-человеком. Впервые «творение», которое могло быть создано только тобой, выпрошенное у тебя, возвысилось над тобой, стало твоим господином и повелителем. Чего еще было желать! С замиранием сердца что-то во мне уже приветствовало элегии, которые появятся десятилетия спустя.
С этого Троицына дня я читала то, что выходило из-под твоего пера, не только твоими глазами: я воспринимала и одобряла написанное тобой как свидетельствование о будущем, к которому ты неудержимо шел. И с той поры я еще раз стала твоей – на сей раз по-иному, в своем втором девичестве.
Где бы ты потом ни жил, в каких бы странах ни обретался, тосковал ли по родине, по дарящему уверенность клочку земли или, гонимый охотой к перемене мест, еще сильнее стремился к полной свободе странствий, – чувство внутренней бездомности никогда больше тебя не оставляло. Сегодня, Райнер, когда вопрос о нашей национальной принадлежности приводит к политической конфронтации с немцами, я иногда спрашиваю себя, сильно ли повредила тебе твоя острая антипатия к австрийскому происхождению. Можно себе представить, что с детства любимая родина, родство по крови уберегли бы тебя от приступов отчаяния в периоды творческих кризисов, доводивших тебя до самоотречения. В родной почве с ее камнями, деревьями, животными есть нечто неприкосновенное, определяющее судьбу человека. Ты же, живя в Швейцарии, почти что выбрал себе новой родиной Францию, которая опостылела тебе еще в Париже. Это проявилось в языке, в выборе друзей, в новых творческих замыслах. Но пришло письмо от тебя, оно было полно стенаний. Растерянный, сбитый с толку, собирался, несмотря ни на что, вернуться в свою башню в замке Мюзо. О лирическом содержании твоих французских стихов я судить не могу, для этого мне недостает тонкости восприятия. Но мое, признаюсь честно, предубеждение мешает мне воспринимать кое-что из написанного тобой по-французски; например, когда ты говоришь о розе, я недоверчиво спрашиваю себя, чего в этих словах больше – тоски или упоения кощунственным мазохизмом?.. И потом, у меня есть твоя фотография той поры, она больно ранила меня в сердце, я никому ее не показываю. Когда я получила ее, меня поразила одна мысль: не нуждался ли ты, сочиняя стихи по-французски, в чужой земле, чтобы вслух высказать то, что молча и тайно влекло тебя к не признающей границ беспредельности?..
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: