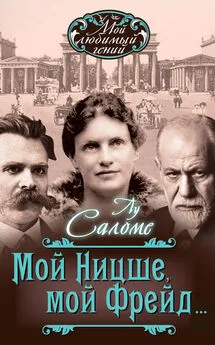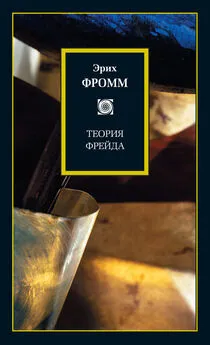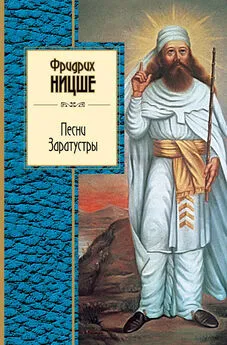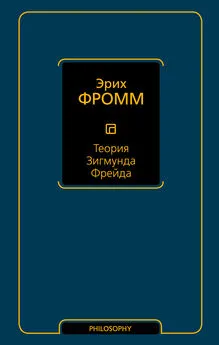Лу Саломе - Мой Ницше, мой Фрейд… (сборник)
- Название:Мой Ницше, мой Фрейд… (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906842-53-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лу Саломе - Мой Ницше, мой Фрейд… (сборник) краткое содержание
Лу Андреас-Саломе (1861–1937) – одной из самых загадочных женщин конца тысячелетия. Автор нашумевшего трактата «Эротика», она вдохновила Ницше на создание его «Заратустры», раскачала маятник творчества раннего Рильке, оказалась идеальным собеседником для зрелого Фрейда. «Сивилла нашего духовного мира», по мнению одних, «жадная губка, охочая до лучистых ежей эпохи», по отзывам других, Лу Саломе «словно испытывала на эластичность границу между мужским и женским началом… Она отважно режиссировала свою судьбу, но тень роковой душевной бесприютности следовала за ней по пятам». Кто же она? Кем были для нее Ницше, Рильке и Фрейд? Об этом она поведает вам сама.
Мой Ницше, мой Фрейд… (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Может быть, быть, Вы сочтете, что я эмпатически говорю о возможных успехах полностью проведенного анализа (т. е. такого, при котором не урезалось время для окончательного довершения и хватило выдержки желанию выздороветь). Тем не менее, мои утверждения основывались на Вашей констатации того, до чего должен дойти каждый анализ, чтобы стать поводом к обновлению, – а именно, той первопричины в нас самих, которую Вы окрестили «нарцистической»: последней познаваемой границы нашей компетенции, дальше которой «наш грубый анализ» уже не распространяется. То, о чем Вы говорили мне сначала устно в 1912 году, и что затем как «Введение нарцизма» обозначило столь решительный рывок вперед в психоаналитическом исследовании, постоянно казалось мне проникновением, так и не использованным в полной мере: причем как раз потому, что наши авторы в большинстве случаев размыто переименовывают в нарцистическое «самолюбие». Вы однажды согласились с моей жалобой, Вы считаете, что сознательное и бессознательное самолюбие, возможно, не были различены с достаточной точностью; но не содержится ли именно в этом та точка, в которой «Самость» оказывается перевернутой в свою противоположность? То есть где любовь к себе еще нераздельно содержит в себе – самоотверженно – изначальную взаимосвязь со всем? Эта пуповина, неучтожимо продолжающая воздействовать на заднем плане наших сознательных возбуждений влечения, – самым явным образом укоренившись в нашей телесности, нашем собственном неотделимом «внешнем», которое, тем не менее, является самими нами, – сделала появление нового термина по-настоящему необходимым. В области телесного скорее всего может произойти перепутывание «самолюбия» (в обычном словоупотреблении) с таким охватыванием всего-в-одном, еще не выделяющим Самость в отдельности, поскольку в нашем физисе внутреннее и внешнее с множеством противоречий постоянно отображаются вместе. Ведь это же побудило Вас применить к нарцистическому образ манер, вытягивающих ложноножки, чтобы затем снова растворить их в комочке собственной протоплазмы – подобно тому, как мы перед каждой новой загрузкой объекта вбираем наше либидо обратно в себя, словно в резервуар еще нерасчлененного мира Я и окружающего мира. (Между прочим, я не могу не вставить здесь еретического высказывания о том, что использованное полностью понятие нарцизма, кажется, делает отрадно излишним понятие Вашего более позднего «Оно», к которому я не очень хорошо отношусь. Ведь Оно уже не рисует границу для пребывания в прежнем состоянии, а простирается дальше нее в философские определения понятия, по которым этих Оно уже почти столько же, сколько философов, что психоаналитически сбивает нас с толку, мы как будто усаживаемся за стол, за которым уже давно не осталось места.)
Причину, почему мы никогда не сможем полностью отдать должное великой значимости первично нарцистического, я вижу в том, что нам, людям, более поздняя сознательная Самость непроизвольно присуща только со стороны достигнутой прибыли сверх исконного состояния. Мы плохо представляем себе, насколько одно в сопоставлении с другим заключает в себе также вынужденное ущемление. Наша полная индивидуализация и осознание нас самих были бы не только дополнением, добавлением, увеличением – скажем так – наличествования, но одновременно и утратой, вычетом неделимо действительного. Быть передвинутым к отдельному, собственному постоянно может толковаться двояко: быть выделенным и быть отстраненным. И помнить об этом обстоятельстве представляется тем более важным, что «погранично-нарцистическое» всю жизнь может выступать в двойной роли: как основной резервуар всех способов душевного проявления вплоть до индивидуализированного или до самого тонкого, а также как место любого соскальзывания назад, любой регрессивной тенденции, прочь от того, что было развито нашим Я, к его начальным проявлениям через патологическую «фиксацию» на инфантильности. Подобно тому, как и у наших органов, как бы они ни дифференцировались, остается резерв протоплазмы, из которого они берут свою жизнеспособность, и как, с другой стороны, их жизнь все же проявляется в способности к дифференциации до мельчайших деталей. Ведь вот что является подлинной задачей психоанализа, предваряющим условием для его практического шедевра – атаковать патологическое, деградировавшее, с целью вскрытия созидательного живого в самом «нарцизме».
По ту сторону того, что еще можно ухватить как пребывание в одном состоянии, вдоль нарцистических пограничных проявлений, душевное переживание нашей сознательной добавочной проверки прячется уже в процессах биологической природы, – т. е. уже оттуда мы совершаем переворот, после которого душевно окрещенное перестает быть для нас душевно сопровождаемым и теперь может быть исследовано только извне, противопоставляется нашей сознательности как телесность. Только в одном пункте мы можем ошибочно полагать, будто сам переворот стал для нас очевидным: как нечто, что одновременно превращается в душевное возбуждение и все-таки может прослеживаться также как физиологический процесс, т. е. «извне», – в сексуальном процессе. Может показаться странным, почему именно в этом месте раздались глупые антифрейдовские выкрики о переоценивании сексуального: разве для того чтобы подняться по ступенькам лестницы, не нужно сначала посмотреть на то, как она стоит на земле, т. е. взглянуть туда, где лестница и земля, скажем так, еще означают одно и то же? Даже при самых «воодушевленных» заявлениях вся лестница опрокинется, если она сдвинута со своего места (разве что это будет известная лестница на небеса). Но зато остается неважным, на какой из ее перекладин она была исследована в поисках «сублимированного» или самого яркого телесного обнаружения. В противоположность распространенному и похвальному обычаю сначала давать аккуратное определение вещам, о которых намереваются говорить, в этом пункте лучше всего было бы перемешать обозначения (подобно ступенькам, которые все равно останутся ступеньками, если их поменять местами), идет ли речь о сексуальности, сладострастии, половости, эросе, любви, либидо или прочем.
Ибо плотское, разделяющее вещь от вещи, персону от персоны, в «очевидной тайне» является тем, что абсолютно и единственно объединяет одновременно внутренние процессы и процессы внешние: ведь наша собственная плоть представляет собой не что иное, как самую близкую к нам часть наружного – неразлучно интимную для нас, идентичную нам, и все же отделенную от нас настолько, что мы должны знакомиться с ней и изучать ее подобно всем прочим вещам извне. Так и в наших объектных связях она – одновременно плоскость, разделяющая нас со всем, и точка встречи со всем (самое отграничивающее в нас и самое всеобщее в нас), вплоть до химической формулы, уподобляющей нас неорганическому как то же самое. Это обстоятельство так точно ставит нашу плотскость в центр всей любовной суеты между объектами, на середину моста влечений, который, от нашей изоляции через личные плотские очертания, переводит нас к родственности всему через плотскость, как если бы в ней, и только в ней, протестовало первое воспоминание о равенстве всех нас, остаток которого, скажем так, еще образуют наши любовные побуждения, исходящие от человека к человеку. Однако, с другой стороны, в каждом появляется также враждебность к плоти вследствие этого противоречия изначальных тенденций к развитию собственного Я, развитию, которое, в своем персональном ограничении, равным образом что-то в себе имеет, т. е. имеет многое против того, чтобы быть превзойденным и отказаться от себя ради единения. Это двусмысленное отношение к плотскому, эту «амбивалентность» нашей душевной установки к нему справедливо отметил создатель термина (наш старый друг и оппонент Блейлер); также и без какого-либо «этически» направленного объяснения такой тормозящий принцип встроен в нашу структуру – как крепость для отражения противника. Ведь как бы ни называли то, что вызывает здесь у нас опасения, – сексуальным опьянением ли, триумфом эроса, властью любви, жалом сладострастия или другими его многочисленными именами, в любом случае остается причастность к бессознательному и, следовательно, вспышка насилия по отношению к упорядоченным укреплениям, возведенным в нашем сознании Я.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: