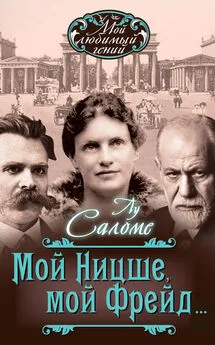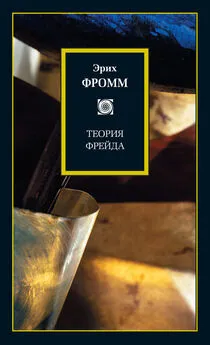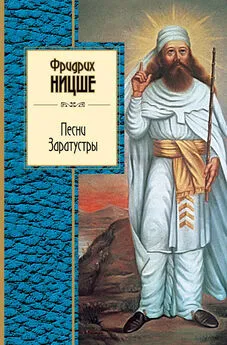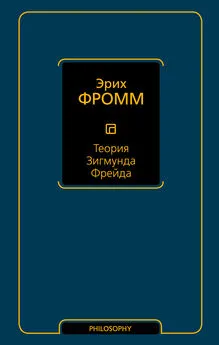Лу Саломе - Мой Ницше, мой Фрейд… (сборник)
- Название:Мой Ницше, мой Фрейд… (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906842-53-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лу Саломе - Мой Ницше, мой Фрейд… (сборник) краткое содержание
Лу Андреас-Саломе (1861–1937) – одной из самых загадочных женщин конца тысячелетия. Автор нашумевшего трактата «Эротика», она вдохновила Ницше на создание его «Заратустры», раскачала маятник творчества раннего Рильке, оказалась идеальным собеседником для зрелого Фрейда. «Сивилла нашего духовного мира», по мнению одних, «жадная губка, охочая до лучистых ежей эпохи», по отзывам других, Лу Саломе «словно испытывала на эластичность границу между мужским и женским началом… Она отважно режиссировала свою судьбу, но тень роковой душевной бесприютности следовала за ней по пятам». Кто же она? Кем были для нее Ницше, Рильке и Фрейд? Об этом она поведает вам сама.
Мой Ницше, мой Фрейд… (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Зато мне всегда казалось знаменательным, когда и в результате чего ребенок впервые начинает опасаться смерти. Чаще всего я замечала это в том повороте, который ребенок, еще играющий «всемогуществом мыслей», совершает, обращаясь к желанию «убрать», разрушить, уничтожить препятствие. Он как будто впервые вводит самого себя в мир в качестве смертного, когда вообще допускает, впускает смерть. С этих пор к нему приходит жуткость смерти, и сознание даже не может представить себе ее с достаточной силой. С созреванием личности этот угрожающий мистический скелет отступает обратно в прочее, не просто нарастив больше мяса, – он растворяется в нем как выражение этой самой жизни; это может даже усиливаться соразмерно телесной слабости, как если бы там, где ее уже недостаточно для полной четкости сознания, она ориентировалась бы во мраке всеобщей родины в менее заглушенном свете (если оставшиеся неулаженными вытеснения, теснящиеся потому обратно в сознание, не напугают ее подобно блуждающим огням – как, например, благочестивую мать Дюрера, который жаловался, что эту добрую, благородную женщину на смертном одре терзали жуткие пугала).
В зависимости от того, к какому резонансу переживания мы более склонны душевно, эхо от него звучит как «смерть» или как «жизнь»; в зависимости от этого мы используем слова, названия, преимущественно в негативном смысле понятийного внешнего рассмотрения или внутреннего события. (Лишь потому могло произойти так, что разработанные Вами влечения к смерти и к жизни почти одновременно получили обратное именование у двух столь одинаково мыслящих людей, как Ш. Ференци и А. Штэрке, у которых жизнь должна была функционировать как смерть, а смерть – как жизнь: при этом отпускающий Я, гасящий сознание момент эроса служил смертельной тенденции, а направленное на Я, алчное до власти обособление отдельных людей друг от друга служило утверждению жизни.) Дело в том, что придумывание названий, которые, сверх заданного состояния, должны указывать нам на его совокупное значение, остается ни к чему не обязывающим; мы, даже будучи антифилософами, все равно рождены для философии, – т. е. для необходимости приводить рассмотренное понятийно и пережитое внутри к образному уравниванию, загоняющему мышление и чувствование друг в друга. Я вспоминаю наши вечерние беседы зимой 1912 года (верно переданные маленькой книжицей в красном кожаном переплете), в которых Вы и я – так задолго до Ваших сегодняшних формулировок – рассуждали на одну и ту же тему; в которых мы соглашались друг с другом, что и при одинаковой понятийной установке вещи (в не меньшей степени, чем, например, в искусстве) остаются vu a travers un temperament. Но уже тогда противники и полупротивники упрекали психоанализ в том, что он выступает как бы «адвокатом смерти», создает своего рода невротическую ситуацию, которую, по его утверждению, он как раз должен излечивать, – в частности, не соответствуя верящим, надеющимся предпосылкам, которые только и делают жизнь жизнью. Теперь это недопонимание наконец прояснилось. Зато на смену ему пришло другое (на основании Ваших более поздних сочинений, – хотя Вы отстаиваете в них все то же, что и раньше), а именно, смутная перспектива культуризации человеком влечений, при которой он должен умертвить себя, как бы при живой плоти, чтобы зажечь свет над хаосом влечений и научиться следовать «примату интеллекта». В частности, громкое «Браво!» раздалось из уст всех тех, кто прежде сердился на Вас за Ваши разоблачения влечений: человек оказался, по определению, «животным, приведенным к аскезе», и все «высшее в человеке» тем самым оказалось Вами признанным и спасенным.
В одном из Ваших последних сочинений упомянуто, что сначала Вы лишь для черновой попытки, так сказать, на пробу, подчеркнули суверенность влечений к смерти, и постепенно для Вас стало невозможным думать об этом по-другому. Теперь нам важно поразмыслить, почему так могло произойти: или правильнее – это стало очень важным для меня. Потому что я вижу, что в этом воздействует нечто совершенно иное, даже практически противоположность того, что видели люди, которые когда-то бранились на это, а сейчас кричат Вам за это «Браво!». И причем как раз потому, что я ощущаю увиденное a travers un temperament, непроизвольно философское, как в высшей степени личностное. То, из-за чего Вы, кажется, перешли на сторону смерти, для меня не является дружественностью к смерти, ни из-за возраста, ни из-за какой либо усталости от жизни, напротив, это, как раньше, – категоричность Вашей солидарности со всей живой действительностью; она заключается в том, что ничто так не отталкивает Вас, как оптимистическое приукрашивание действительности, ее фальсификация бредовой желаемостью, как будто только такой она достойна нашего переживания. Только там, где мы имеем перед глазами ее саму, без симуляции и очковтирательства, действительность соединяется с нами в нечто большее, чем просто кажущееся переживание: в опыт, на котором могла бы прийти к воздействию ее и наша последняя изначальная общность, – каким бы неприступным это ни оставалось для противопоставления понятий реального и субъективного. Я по себе знаю опасность, что субъективная жизнерадостность непроизвольно врисует свой собственный портрет в противоположность фактических результатов; поэтому я уже писала или говорила Вам от себя: ничто не нравится мне больше, чем бежать на поводке, который держите Вы, – только это должен быть достаточно длинный поводок, – так, чтобы как только я где-нибудь заберусь слишком далеко в сторону, Вам нужно было бы только натянуть поводок, чтобы я оказалась рядом с Вами на одной с Вами земле. Потому что «рядом с Вами» для меня значит там, где, как я знаю, Вы всегда близки к самой глубине: рядом с тем, что лежит ближе всего.
В том, как абсолютно важно ограничиваться реально данным, фактически лежащим перед нами, меня убедила не только образцовость Вашей манеры работать, но и, шаг за шагом, психоаналитическая практика во время собственной работы. Потому что к самым сильным моим впечатлениям – никогда не устаревающим, всегда оживающим снова – относится то, что каждый раз весь психоанализ словно открывается заново, как будто он только становится событием, непосредственно пережитым в том, что наши субъективные добавления могли бы только умалить. Ядро того, что может стать для человека опытом, обнажается в точной, сдерживающей работе по удалению его обшивок, вместо них вновь надевается тонкая оболочка – чуждая, стирающая контуры, – при максимальном учитывании методики и техники, довольствующейся такой помощью, без высокомерного добавления от себя. Это постигается при размышлении о том, от чего кто-то заболел – от насильственной деятельности тех обшивок, которые преждевременно (как чересчур хорошее предохранение) нарастила ему власть взрослых и власть жизненных впечатлений и хотела спугнуть ими его внутренний мир обратно беспомощно в самого себя. Определение здоровья нельзя было бы перефразировать лучше, чем словами «природа не является ни ядром, ни оболочкой», или «что внутри, то и снаружи», – правда, совершенство интактности существует лишь в теоретических конструкциях, и нам, поистине, не нужно становиться невротиками и метаться из стороны в сторону для того, чтобы оказаться между снятием оболочки и вытаскиванием ядра, между опасностью ограждения от внешнего или выпадения в пустоту. Трудно представить, как иначе должны были бы вести себя имеющие влечения создания, одаренные сознательностью или обреченные быть сознательными (называйте, как хотите!), в происходящих с ними приключениях. Потому что у каждого, чем дальше, тем больше, изначальное инфантильное ожидание, еще путающее само себя с воплощением космоса, должно пережить разочарование, следовательно, прийти в искушение либо скрыть и вытеснить то полное ожиданий безмерное, либо отдаться ему вместо окружающей реальности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: