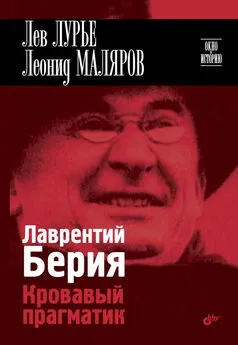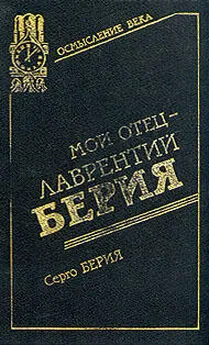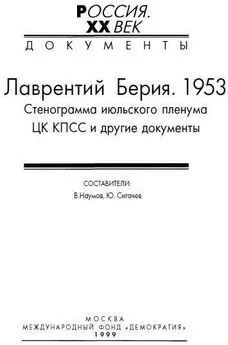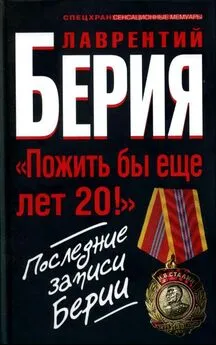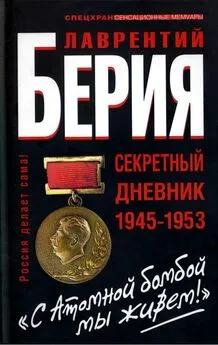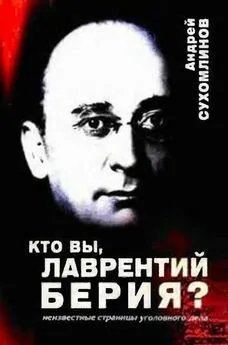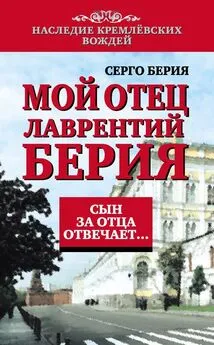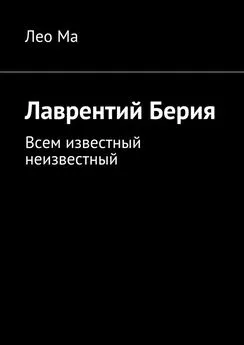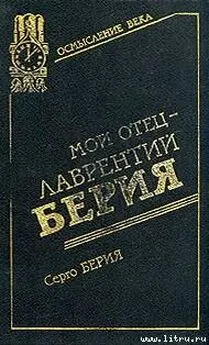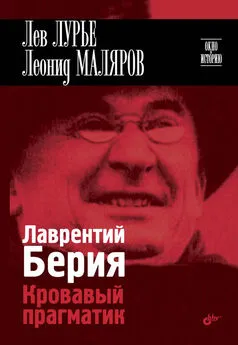Лев Лурье - Лаврентий Берия. Кровавый прагматик
- Название:Лаврентий Берия. Кровавый прагматик
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентБХВcdf56a9a-b69e-11e0-9959-47117d41cf4b
- Год:2015
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-9775-0753-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Лурье - Лаврентий Берия. Кровавый прагматик краткое содержание
Эта книга – объективный и взвешенный взгляд на неоднозначную фигуру Лаврентия Павловича Берии, человека по-своему выдающегося, но исключительно неприятного, сделавшего Грузию процветающей республикой, возглавлявшего атомный проект, и в то же время приказавшего запытать тысячи невинных заключенных. В основе книги – большое количество неопубликованных документов грузинского НКВД-КГБ и ЦК компартии Грузии; десятки интервью исследователей и очевидцев событий, в том числе и тех, кто лично знал Берию. А также любопытные интригующие детали биографии Берии, на которые обычно не обращали внимания историки. Книгу иллюстрируют архивные снимки и оригинальные фотографии с мест событий, сделанные авторами и их коллегами.
Для широкого круга читателей
Лаврентий Берия. Кровавый прагматик - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Одно из замечательных качеств грузинского народа, и, кстати, с этим связана всеобщая неприязнь к Берии, – свободолюбие. Недаром после 1990 года грузины выгнали последовательно трех своих президентов – Гамсахурдию, Шеварднадзе, Саакашвили. В грузинской политике не забалуешь. Силу Грузии представляет то, с чем боролись и Лаврентий Берия, и Михаил Саакашвили, – вольномыслие, сила дружеских связей, предпочтение частного общему. И если отношения России и Грузии улучшатся, то именно эта левантийская мягкость станет главным экспортным товаром, вместе с «Боржоми», «Цинандали» и хинкали. Россиян всегда будет притягивать красота архитектуры и рельефа на фоне доброжелательности, гостеприимства и чувства собственного достоинства, свойственных грузинам.

Старый Тбилиси

Улочки старого Тбилиси
В былой зажиточной грузинской жизни заслуга не только Лаврентия Берии, но и сложившейся в СССР новой экономической модели. Сталинский социализм – это автаркия, опора на собственные силы. Все, что можно произвести и вырастить в стране, – не импортируется. Пусть ценой потери качества, но всегда находится свой национальный аналог. Главной задачей трех первых пятилеток было повышение обороноспособности страны, развитие тяжелой индустрии. Значительную часть оборудования для полутора тысяч предприятий, заложенных в эти годы, вывозили с Запада, прежде всего из Германии и США. Платить надо было валютой. Это и стало основной причиной невероятных бедствий советского крестьянства. Даже необходимое для простого выживания зерно шло на экспорт. Заключенных и бежавших от коллективизации использовали на лесозаготовках. Конечно, вывозили лен, золото, пушнину и картины Эрмитажа, ювелирные изделия Фаберже. Но именно зерно и древесина оставались главными экспортными товарами.
В дореволюционной России существовал такой термин – «колониальные товары». То, что не могло быть произведено в пределах своей империи, ввозилось из колоний иностранных империй. В 1913 году Россия ввезла 170 000 тонн хлопка, 36 тонн шелка, 378 тонн табака, 75 813 тонн чая, 132 575 тонн фруктов и 8765 тонн вина. Прямо сказать, массовыми товарами из всего этого были только хлопок, из которого делали знаменитый ивановский ситец, и постепенно проникавший не только в городской, но и крестьянский быт – чай.
Основная масса населения носила холст, ситец, овчину, а шелк знала только по названию. Табак – удел городского среднего класса. Мужик курит махорку. Главным фруктом для русского человека является яблоко, и пьет он не вино, а водку. Но Россия – страна «демонстративного потребления», поэтому магазины Елисеевых процветали, шампанское лилось рекой, дымили гаванские сигары и поэт Маяковский призывал капиталистов в последний раз есть ананасы.
С почти полным уничтожением «эксплуататорских классов» поток колониальных товаров в СССР резко сократился. К концу НЭПа в 1926 году в Россию ввозили 162 080 тонн хлопка, 22 000 тонн табака, 22 545 тонн чая, 32 689 тонн фруктов и всего 1000 тонн вина. Только шелка почему-то ввезли больше, чем до революции, – 168 000 тонн. Быть может, на знамена и транспаранты?
Советская жизнь 1930-х годов противоречива. С одной стороны, сверхэксплуатация крестьянства, с другой – ликвидация безграмотности, введение всеобщего неполного среднего образования, появление множества новых вузов, масштабные инфраструктурные проекты и постепенное внедрение в обиход советских людей новых товаров. Это время микояновской революции быта. Постепенная замена махорки табаком, советское шампанское на Новый год, мандарины под елку. На столах советского «среднего класса» появляются невиданные ранее полуфабрикаты, сосиски, макароны, сгущенное молоко и т. д. Увеличивается производство тканей и готовой одежды.
Этого можно было достигнуть только за счет производства бывших колониальных товаров в Советском Союзе. И во всей огромной стране существовала только одна географически небольшая зона, где практически все эти товары могли производиться – влажные субтропики Грузии. Хлопок стали выращивать в Азербайджане и Средней Азии.
И мегрел Берия, и картлиец Сталин прекрасно знали грузинское крестьянство и сумели создать такой хозяйственный механизм, который, в отличие от других республик, гарантировал и экономический рост, и повышение уровня жизни колхозников. Одной из записок Берии, способствующей его карьере, стала жалоба Сталину на Кварталешвили, допустившего перегибы в темпах коллективизации. В результате объем обобществленных крестьянских хозяйств в Грузии к концу 1930-х годов был самым низким в СССР. Были введены высокие закупочные цены на технические культуры, а также фрукты и виноград. Крестьянам оставили вполне приличные по размерам приусадебные участки. Если вологодский земледелец мог продать на колхозном рынке разве что картошку, то колхозники Грузии постепенно заполняли советские колхозные рынки дорогущими фруктами и цветами.
Еще одна важная предпосылка бериевских успехов – создание «черноморской Ривьеры». Выезд за границу на настоящую Ривьеру даже для высших советских каст был фактически закрыт. С другой стороны, как сказал генеральный секретарь, «жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи». Рабочие стахановцы, красные командиры, чекисты, академическая и художественная интеллигенция проводили свои законные отпуска в санаториях и домах отдыха, построенных между Пицундой и Батуми, пользовались целебными источниками Цхалтубы и Боржоми. Вслед за ними в Грузию ринулись и те, кому профсоюзные путевки не достались: «дикари». У жителей прибрежных населенных пунктов появился сезонный доход от сдачи жилья.
Грузия была для России со времен Лермонтова неким аналогом европейского Средиземноморья – теплого, свободного, уютного и далекого. Все побывавшие в Грузии отзывались о ней восторженно: и родившийся в селе Багдати Кутаисской губернии Владимир Маяковский, и переводивший грузинских поэтов Борис Пастернак, и артисты лучших московских театров, радушно принимавшиеся тбилисскими зрителями. Грузия казалась в наименьшей степени затронутой общим обеднением советской жизни. Гостей встречали непрерывные пиры, получастные духаны, открытые церкви. Сталинский ампир, казавшийся не слишком уместным на фоне московских куполов и имперского Петербурга, в Гаграх, Сухуми, Батуми и Тбилиси выглядел естественно и нарядно.
Одноклассник Серго Берии Роберт Саакян рассказывал нам:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: