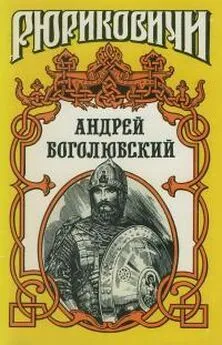Алексей Карпов - Андрей Боголюбский
- Название:Андрей Боголюбский
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2014
- Город:М.
- ISBN:978-5-235-03677-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Карпов - Андрей Боголюбский краткое содержание
Князь Андрей Юрьевич Боголюбский (ум. 1174) принадлежит к числу ключевых фигур в истории нашего Отечества. Именно его называют создателем самостоятельного Владимиро-Суздальского княжества — политического ядра будущей Великороссии, иными словами — современной России. Однако о жизни и деяниях князя нам известно совсем не так много, как хотелось бы: чуть ли не каждый его шаг в качестве владимирского «самодержца» может быть поставлен под сомнение; чуть ли не каждое известие о нём вызывает оживлённую дискуссию среди историков. С наибольшей подробностью летописи освещают историю его трагической гибели от рук заговорщиков — его ближайших соратников и слуг; но и здесь вопросов куда больше, чем ответов. Настоящая книга — как и предыдущие книги автора о древнерусских князьях, выходившие ранее в серии «Жизнь замечательных людей», — представляет собой попытку воссоздания биографии князя на основании скрупулёзного исследования всех сохранившихся источников.
Андрей Боголюбский - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Эти предварительные замечания помогают нам понять, почему у епископа Леона было немного шансов добиться поддержки у василевса. К тому же взгляды Леона на соблюдение поста в среду и пятницу, по-видимому, не совпадали со взглядами на этот предмет самого императора. А надо сказать, что император Мануил вообще отличался любовью к разного рода богословским диспутам, нередко сам участвовал в них и всегда с горячностью отстаивал свою точку зрения, даже если она входила в противоречие с точкой зрения признанных авторитетов, включая и самого константинопольского патриарха. Тем, кто пытался противоречить ему, приходилось несладко. Рассказывали, что однажды, когда патриарх и другие иерархи не согласились с изменениями, которые василевс предложил внести в чин оглашения иноверцев (вопрос сугубо церковный!), император «оскорбился этим» и в гневе дошёл до того, что начал осыпать архиереев бранью, называя их «всесветными дураками» {179} . Тем менее склонен он был церемониться с каким-то провинциальным епископом, попавшим ему, что называется, под горячую руку.
Для встречи с императором Леону не понадобилось даже ехать в Константинополь. Как рассказывает летописец, царь тогда «стоял товары», то есть станом, лагерем, «над рекою». Под «рекою» обычно понимают Дунай, хотя речь может идти и о каком-либо из его притоков. В то время император воевал с венграми, а потому ему приходилось бывать на Дунае едва ли не чаще, чем в столице. Так, весной 1163 года василевс «с большей частью ромейского войска остановился лагерем» в Филиппополе (нынешнем Пловдиве, в Болгарии), позднее, летом, перебрался в Наис (Ниш), где тоже «расположился лагерем», а ещё позднее перенёс свою ставку в Белград. Затем его отвлекли дела на востоке, и он изготовился уже к военным действиям в Палестине (о чём нам также ещё предстоит поговорить), но события в Венгрии, где новый король Стефан III изгнал своего брата Белу (ставленника Мануила, который даже выдал за него замуж свою дочь), вновь заставили императора поспешить к Дунаю. В 1164 году, переправившись через Саву, он «стал лагерем» у Титела (при слиянии Тисы и Дуная), а затем раскинул свои палатки у Петровара (некой «Каменной крепости», близ границ Венгрии), откуда и вступил в переговоры с королём Стефаном, — но переговоры эти закончились неудачей {180} . Летописная дата встречи епископа Леона с «царём» «над рекою» (1164 год) полностью соответствует хронологии дунайских походов императора Мануила, а потому историки, как правило, принимают её как более или менее точную.
В лагере императора в то время оказались послы сразу четырёх русских князей: великого князя Киевского Ростислава Мстиславича, суздальского князя Андрея Боголюбского, а также князей черниговского и переяславского. (Последним, напомню, был младший брат Андрея князь Глеб Юрьевич; что же касается черниговского князя, то им до февраля 1164 года был Святослав Ольгович, а затем, после его смерти, — его племянник Святослав Всеволодович.) Имя суздальского посла — редкий случай! — названо в летописи: им был некий Илья. Примечательно, что в перечне послов Илья занимает второе место, сразу после киевского; третьим же следует даже не черниговский, как должно быть, а переяславский. Это свидетельствует о суздальском происхождении всего рассказа: очевидно, о происшествии «над рекою» летописцу стало известно непосредственно со слов Ильи. (В поздней Никоновской летописи имя посла князя Андрея Юрьевича названо полнее: Илья Андреев; здесь же приведено и имя киевского посла — Иван Яковль, но откуда извлёк книжник XVI века эти имена, как всегда, неизвестно.) Не обязательно думать, что все четверо прибыли к царю Мануилу вместе с Леоном и по его же делу. Скорее, их привели сюда иные заботы, так или иначе связанные с обсуждением условий русско-византийского союза. Тем не менее все они стали свидетелями произошедшего разбирательства.
Мануил предоставил Леону возможность высказаться и даже устроил прение между ним и оказавшимся здесь же другим греческим иерархом. Суздалец Илья с удовольствием поведал о полном фиаско своего епископа, причём дело, по его словам, едва не дошло до смертоубийства: «Он же иде на исправленье Царюгороду, а тамо упрел и (его. — А. К.) Анъдриян, епископ Болгарьскый, перед царем Мануилом… Леону молвящю на царя, удариша слугы царевы Леона за шью (за шею. — А. К.) и хотеша и в реце утопити…» — «Се же сказахом верных деля людий, — заключает свой рассказ летописец, — да не блазнятся о праздницех Божьих».
Как видим, Мануил остался верен себе, не терпя прекословия. «Царёвы слуги» действовали в полном соответствии с принятой им манерой поведения, награждая епископа тумаками и угрожая и вовсе утопить его. Наверное, в пылу полемики епископ позволил себе что-то выходящее за рамки приличий, может быть, напрямую обратился к императору, принявшему участие в споре («молвящю на царя»). Такое пресекалось незамедлительно. Возможно, подобная дерзость имела место и во время его прежних дискуссий с участием князя Андрея Юрьевича. Впрочем, это, разумеется, не более чем догадка, тем более что и Андрей вряд ли стал бы терпеть неподобающее поведение собеседника. Но так или иначе, а присутствовавшие в лагере царя русские послы смогли убедиться: царь отнёсся к ростовскому епископу с очевидным пренебрежением. Это должно было ещё больше осложнить его положение на Руси.
Особого внимания заслуживает фигура болгарского епископа, переспорившего Леона. В некоторых более поздних русских летописях он назван архиепископом {181} , и это наименование оказывается точнее, ибо именно такой титул носили предстоятели Охридской епархии (Охрида — город в Западной Болгарии, в то время византийской провинции). Как установили историки, под летописным именем скрывается грек Иоанн IV Комнин, архиепископ Охридский, звавшийся Адрианом в миру {182} . До своего поставления на кафедру (что случилось не позднее 1142 года) он носил высокое звание пансеваста и великого друнгария. Его мирское имя — единственное упомянутое в греческом перечне архиепископов Болгарской церкви. И это не случайно. Иоанн-Адриан принадлежал к правящей в Византии династии: он был сыном севастократора Исаака Комнина, родного брата императора Алексея I, родоначальника династии, иными словами, приходился императору Мануилу двоюродным дядей. Уже по одной этой причине его слово многое значило в то время, особенно в окружении императора, где, как мы видим, его предпочитали называть мирским именем. Но архиепископ Иоанн обладал немалым авторитетом в Греческой церкви и как знаток церковного права: он оставил после себя несколько небольших сочинений, а также собственноручно изготовленный список Номоканона — сборника церковных законов и постановлений, хранящийся ныне в Ватиканской библиотеке. Участие в прениях «над рекою» — последнее известное нам деяние архиепископа. Дата его смерти в источниках отсутствует. Ранее историки относили его кончину к 1157 или 1157–1160 годам, известие же Лаврентьевской летописи позволяет отодвинуть её на несколько лет.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


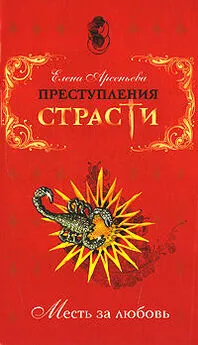



![Алексей Карпов - Владимир Святой [3-е издание]](/books/564238/aleksej-karpov-vladimir-svyatoj-3-e-izdanie.webp)