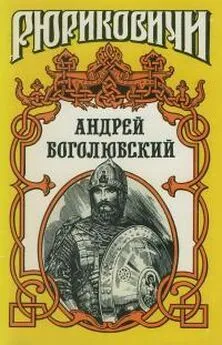Алексей Карпов - Андрей Боголюбский
- Название:Андрей Боголюбский
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2014
- Город:М.
- ISBN:978-5-235-03677-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Карпов - Андрей Боголюбский краткое содержание
Князь Андрей Юрьевич Боголюбский (ум. 1174) принадлежит к числу ключевых фигур в истории нашего Отечества. Именно его называют создателем самостоятельного Владимиро-Суздальского княжества — политического ядра будущей Великороссии, иными словами — современной России. Однако о жизни и деяниях князя нам известно совсем не так много, как хотелось бы: чуть ли не каждый его шаг в качестве владимирского «самодержца» может быть поставлен под сомнение; чуть ли не каждое известие о нём вызывает оживлённую дискуссию среди историков. С наибольшей подробностью летописи освещают историю его трагической гибели от рук заговорщиков — его ближайших соратников и слуг; но и здесь вопросов куда больше, чем ответов. Настоящая книга — как и предыдущие книги автора о древнерусских князьях, выходившие ранее в серии «Жизнь замечательных людей», — представляет собой попытку воссоздания биографии князя на основании скрупулёзного исследования всех сохранившихся источников.
Андрей Боголюбский - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Андрей вместе с другими князьями и конными дружинами какое-то время преследовал отступающего противника, но затем повернул назад. «Князь же Ондрей воротися с победою, видев поганыя болгары избиты, а свою дружину всю сдраву, — рассказывает летописец. — Стояху же пеши с Святою Богородицею на полчище под стягы. И приехав до Святое Богородици и до пешець князь Андрей с Гюргем и со Изяславом и с Ярославом и со всею дружиною, удариша челом пред Святою Богородицею, и почаша целовати Святу Богородицю с радостью великою и со слезами, хвалы и песни въздавающи ей».
К самому «Великому городу» войска Андрея двигаться не стали. Для этого требовались значительно большие силы, нежели те, которыми располагал суздальский князь. Но война была ещё далеко не закончена; русские продолжили наступление на болгар, стремясь захватить как можно больше добычи и причинить как можно больший урон противнику. Уже после рассказа о возвращении князя к иконе и молитвенном обращении к ней (чем, казалось бы, уместно было завершить всё повествование) летописец сообщает о главном успехе Андреева войска — взятии нескольких болгарских городов:
«И шедше взяша град их славный Бряхимов, а переди (то есть прежде того. — А. К.) 3 городы их пожгоша. Се же бысть чюдо новое Святое Богородици Володимерское, юже взял бяше с собою благоверный князь Андрей…» [93]Собственно, в летопись весь этот рассказ и вошёл как «новое чудо» Владимирской иконы Божией Матери.
Иные подробности болгарской войны приводит автор Слова о празднике 1 августа.
Во-первых, здесь говорится о взятии не четырёх, а пяти болгарских городов, причём указано местоположение главного из них: «И шедше, взяша 4 городы болгарьскыи, пятый Бряхимов на Каме». Это очень важное дополнение, которое обнаруживает хорошую осведомлённость автора относительно происходящих событий. К тому же это единственный более или менее точный географический ориентир во всём повествовании о болгарской войне. Судя по названию, Бряхимов (в Радзивиловской летописи он назван чуть иначе: Ибряхымов) был крупным городом, основанным на Каме одним из прежних болгарских правителей [94].
Но где именно он находился, мы, к сожалению, не знаем, хотя на этот счёт и было высказано несколько взаимоисключающих суждений. В разное время Бряхимов искали то близ устья реки Суры, на месте будущего Васильсурска (в Нижегородской области), то на месте самого Нижнего Новгорода, при слиянии Оки и Волги. Эти старые гипотезы давно отвергнуты — прежде всего потому, что они игнорируют ясное указание источника на то, что Бряхимов располагался на Каме. Но то же самое можно сказать и о другой гипотезе, поддерживаемой в том числе и современными исследователями, — в соответствии с ней, Бряхимов есть не что иное, как город Булгар, первая столица Болгарского царства (на месте нынешнего города Болгар в Татарстане, на левом берегу Волги, в 200 километрах от Казани) {212} . Иногда полагают даже, что его разорение и заставило болгар перенести столицу вглубь страны. Но ведь и Болгар находился совсем не на Каме! И едва ли русский книжник мог спутать среднее течение Волги (более или менее знакомое русским) с «болгарской» рекой Камой, чем сторонники данной версии пытаются объяснить её несоответствие показаниям источника. Более вероятным, пожалуй, выглядит другое, также весьма давнее предположение — о том, что Бряхимов находился близ нынешнего города Елабуга, на месте так называемого «Чёртова городища» (это предположение впервые озвучил в XIX веке елабужский купец и краевед Иван Васильевич Шишкин, отец знаменитого художника) {213} . Существование здесь древнего болгарского города не вызывает сомнений и подтверждается археологически. Но уверены ли мы в том, что на Каме в XII веке не было других болгарских городов? Конечно же нет. А потому следует всё же согласиться с теми исследователями, которые отказываются от точной локализации завоёванного Андреем города.
Во-вторых, в Слове о празднике 1 августа читается яркий рассказ о чуде, случившемся уже после того, как были взяты упомянутые пять болгарских городов. Это главный сюжет всего произведения:
«И воротився от сеча, вси видеша луча огнены от иконы Спаса нашего Владыкы Бога, и весь полк его окрыть». (То есть огненные лучи от иконы покрыли, или, лучше сказать, осенили, всё воинство князя.) Это и побудило Андрея продолжить военные действия: «Он же воротися опять и попали грады ты огнемь и положи землю ту пусту, а прочий городы осади дань платити».
Какие грады «попали огнём» русское войско, а какие были оставлены платить дани, источник не сообщает. Очевидно, имеется в виду, что были сожжены и разрушены Бряхимов и другие ранее завоёванные города, к которым, если так, Андрею пришлось возвращаться вторично. О полном разорении или даже уничтожении Бряхимова писал и позднейший русский книжник XVI века, автор «Казанской истории», много лет проведший в казанском плену. Он, кажется, знал, где именно располагался Бряхимов, а может быть, лишь делал вид, что знает: «Тут же был на Каме град старый Бряхов болгарский, ныне же градище пусто. Того же первие взя князь великий Андрей Юрьевичь Владимирский, и в конечное запустение преда, и болгар тех под себя подклони» {214} . Но это, конечно, взгляд совсем из другой эпохи. Поход Андрея Боголюбского воспринимался тогда как прообраз будущего взятия Казани царём Иваном Грозным, а потому Бряхимов сопоставляли со столицей Казанского царства: «И бысть Казань столный град вместо Бряхимова».
Автор Слова приводит ещё одну удивительную подробность. Оказывается, в то же самое время те же огненные лучи наблюдал за тысячу вёрст от русского стана на Каме византийский император Мануил Комнин, выступивший будто бы в поход против «сарацин» в один день с князем Андреем Юрьевичем. Названа и дата чудесного видения — 1 августа, и эта дата представляется исключительно важной для определения хронологии болгарской войны Андрея Боголюбского.
Эти известия проложного Слова ставят перед исследователями целый ряд трудноразрешимых загадок.
Сначала об иконе Святого Спаса, сыгравшей столь заметную роль в истории болгарского похода [95]. Внимание исследователей обращает на себя тот факт, что о ней ничего не говорится не только в летописи (где победа приписана чуду Пресвятой Богородицы), но и в начале самого проложного Слова (где упомянуты та же Владимирская икона и крест). Иногда в этом видят противоречие в трактовке болгарского похода, наличие двух его версий — условно говоря, «княжеской» и «ростовской», идейно противостоящих друг другу.
Но, как мне кажется, противопоставление это мнимое. Напомню, что само празднование 1 августа было установлено князем Андреем Юрьевичем совместно Спасу и Божией Матери. Кроме того, нет сомнений, что в поход была взята не одна Владимирская икона, а несколько чтимых икон — в том числе (и, может быть, в первую очередь) икона Спасителя. Об особом почитании Андреем этой иконы прямо свидетельствует летопись, о чём речь у нас уже шла выше. Напомню, что, по словам летописца, князь, «видя образ Божий, на иконах написан», взирал на него, «яко на самого Творца». Уместно вспомнить и другую цитату, приводившуюся в книге: по сообщению позднего Жития XVIII века, князь, выступая в любой из своих походов, «святыя иконы при себе имеяше», причём первой названа именно икона Спаса. Важно и другое. В праздновании 1 августа образы Спаса и Богородицы соединились так же естественно, как естественно соединены они на Владимирской иконе, где Спаситель пребывает на руках у Матери. Конечно, едва ли Владимирская икона могла быть названа иконой Спаса. Но, строго говоря, лучи могли исходить и от нее, от изображённого на ней лика Спасителя, и это могло быть воспринято как прямая помощь Спаса русскому войску.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


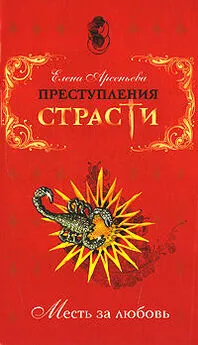



![Алексей Карпов - Владимир Святой [3-е издание]](/books/564238/aleksej-karpov-vladimir-svyatoj-3-e-izdanie.webp)