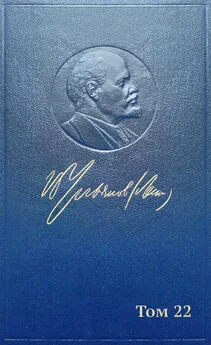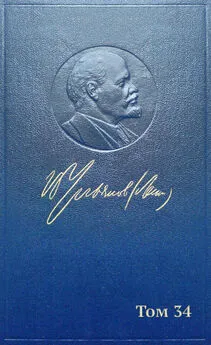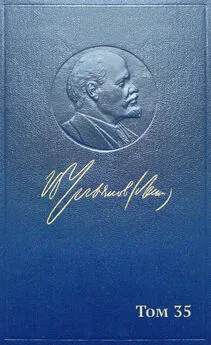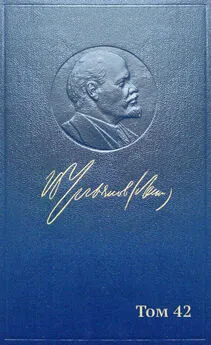Владимир Ленин (Ульянов) - Полное собрание сочинений. Том 37. Июль 1918 — март 1919
- Название:Полное собрание сочинений. Том 37. Июль 1918 — март 1919
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Паблик на ЛитРесеd7995d76-b9e8-11e1-94f4-ec5b03fadd67
- Год:1969
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Ленин (Ульянов) - Полное собрание сочинений. Том 37. Июль 1918 — март 1919 краткое содержание
В тридцать седьмой том Полного собрания сочинений В. И. Ленина входят произведения, написанные с конца июля 1918 по 11 марта 1919 года, в период развертывания иностранной военной интервенции против Советской республики и гражданской войны в стране.
Полное собрание сочинений. Том 37. Июль 1918 — март 1919 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
С другой стороны, если бы большевистский пролетариат попробовал сразу, в октябре – ноябре 1917 года, не сумев выждать классового расслоения деревни, не сумев подготовить и провести его, попробовал «декретировать» гражданскую войну или «введение социализма» в деревне, попробовал обойтись без временного блока (союза) с крестьянством вообще, без ряда уступок среднему крестьянину и т. п., – тогда это было бы бланкистским {144}искажением марксизма, тогда это было бы попыткой меньшинства навязать свою волю большинству, тогда это было бы теоретической нелепостью, непониманием того, что общекрестьянская революция есть еще революция буржуазная и что без ряда переходов, переходных ступеней, сделать ее социалистическою в отсталой стране нельзя.
Каутский все перепутал в важнейшем теоретическом и политическом вопросе и на практике оказался просто прислужником буржуазии, вопящим против диктатуры пролетариата.
Такую же, если не бо́льшую, путаницу внес Каутский в другой интереснейший и важнейший вопрос, именно: была ли принципиально правильно поставлена, а затем была ли целесообразно проведена, законодательная деятельность Советской республики в аграрном преобразовании, этом труднейшем и в то же время важнейшем социалистическом преобразовании? Мы были бы несказанно благодарны всякому западноевропейскому марксисту, если бы он, ознакомившись хотя бы с важнейшими документами, дал критику нашей политики, ибо этим он помог бы нам чрезвычайно, помог и назревающей революции во всем мире. Но Каутский дает вместо критики невероятную теоретическую путаницу, превращающую марксизм в либерализм, а на практике пустые, злобные, мещанские выходки против большевиков. Пусть судит читатель:
«Крупного землевладения нельзя было удержать. Это сделала революция. Это стало ясным тотчас же. Его нельзя было не передать крестьянскому населению…» (Неверно, господин Каутский: вы подставляете «ясное» для вас на место отношения разных классов к вопросу; история революции доказала, что коалиционное правительство буржуа с мелкими буржуа, меньшевиками и эсерами, вело политику сохранения крупного землевладения. Это особенно доказал закон С. Маслова и аресты членов земельных комитетов {145}. Без диктатуры пролетариата «крестьянское население» не победило бы помещика, объединившегося с капиталистом.)
«…Однако насчет того, в каких формах должно это произойти, единства не было. Мыслимы были различные решения…» (Каутского больше всего заботит «единство» «социалистов», кто бы себя ни называл этим именем. О том, что основные классы капиталистического общества должны приходить к различным решениям, он забывает.) «…С социалистической точки зрения самым рациональным было бы передать крупные предприятия в государственную собственность и предоставить крестьянам, которые до сих пор были заняты в них, как наемные рабочие, обработку крупных имений в формах товарищества. Но это решение предполагает таких сельских рабочих, которых в России нет. Другим решением могла бы быть передача крупного землевладения в государственную собственность, с разделом его на мелкие участки, сдаваемые в аренду малоземельным крестьянам. Тогда было бы еще осуществлено кое-что от социализма…»
Каутский отделывается, как всегда, знаменитым: с одной стороны, нельзя не сознаться, с другой стороны, надо признаться. Он ставит рядом различные решения, не задаваясь мыслью – единственно реальной, единственно марксистской мыслью – о том, каковы должны быть переходы от капитализма к коммунизму в таких-то особых условиях. В России есть наемные сельские рабочие, но их немного, и поставленного Советскою властью вопроса о том, как перейти к коммунальной и товарищеской обработке земли, Каутский не коснулся. Курьезнее всего, однако, что Каутский хочет видеть «кое-что от социализма» в раздаче мелких участков земли в аренду. На самом деле это мелкобуржуазный лозунг, и «от социализма» тут ничего нет. Если «государство», сдающее земли в аренду, не будет государством типа Коммуны, а будет парламентарной буржуазной республикой (именно таково постоянное предположение Каутского), то сдача земли мелкими участками будет типичной либеральной реформой.
О том, что Советская власть отменила всякую собственность на землю, Каутский молчит. Хуже того. Он совершает невероятную подтасовку и цитирует декреты Советской власти так, что опускается наиболее существенное.
Заявив, что «мелкое производство стремится к полной частной собственности на средства производства», что учредилка была бы «единственным авторитетом», способным помешать разделу (утверждение, которое вызовет хохот в России, ибо все знают, что рабочие и крестьяне авторитетными считают только Советы, а учредилка стала лозунгом чехословаков и помещиков), – Каутский продолжает:
«Один из первых декретов Советского правительства постановил: 1. Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа. 2. Помещичьи имения, равно как все земли, удельные, монастырские, церковные, со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями, переходят в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов, впредь до разрешения Учредительным собранием вопроса о земле».
Процитировав только эти два пункта, Каутский заключает:
«Ссылка на Учредительное собрание осталась мертвой буквой. Фактически крестьяне отдельных волостей могли делать с землею, что хотели» (47).
Вот вам образцы «критики» Каутского! Вот вам «ученая» работа, больше всего похожая на подлог. Немецкому читателю внушается, что большевики капитулировали перед крестьянством по вопросу о частной собственности на землю! что большевики предоставили крестьянам враздробь («отдельным волостям») делать, что хотят!
А на самом деле цитируемый Каутским декрет – первый декрет, изданный 26 октября 1917 г. (ст. ст.) [23], – состоит не из 2-х, а из 5-ти статей плюс восемь статей «наказа», причем про наказ сказано, что он «должен служить для руководства».
В 3-ей статье декрета говорится, что хозяйства переходят «к народу» , что обязательно составление «точной описи всего конфискуемого имущества» и «строжайшая революционная охрана». А в наказе говорится, что «право частной собственности на землю отменяется навсегда», что «земельные участки с высококультурными хозяйствами» «не подлежат разделу», что «весь хозяйственный инвентарь конфискованных земель, живой и мертвый, переходит в исключительное пользование государства или общины, в зависимости от величины и значения их, без выкупа», что «вся земля поступает в общенародный земельный фонд».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: