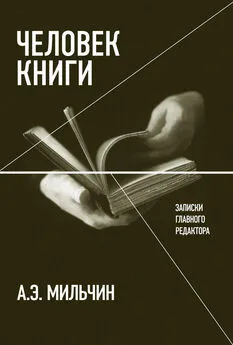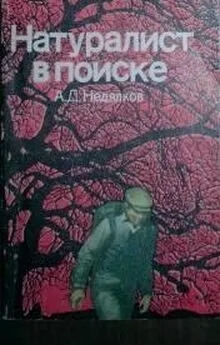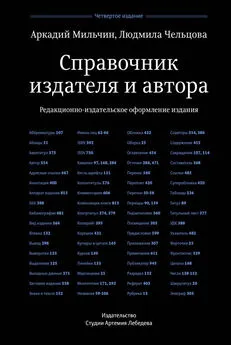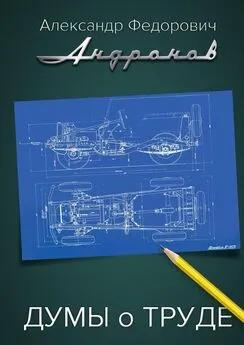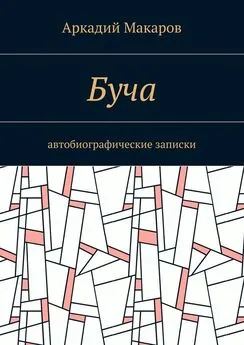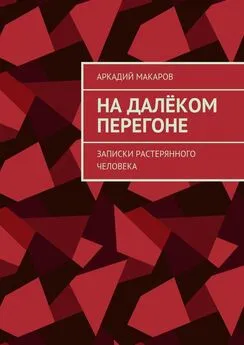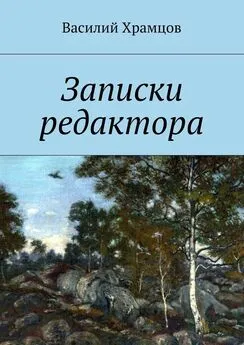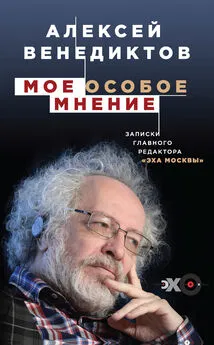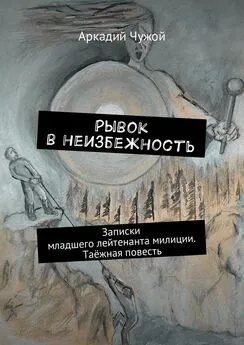Аркадий Мильчин - Человек книги. Записки главного редактора
- Название:Человек книги. Записки главного редактора
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентНЛОf0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0439-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Аркадий Мильчин - Человек книги. Записки главного редактора краткое содержание
Аркадий Эммануилович Мильчин (1924–2014) – имя, знакомое каждому, кто имеет отношение к издательскому делу. Мильчину принадлежат многочисленные пособия по редактированию и справочники для редакторов и авторов. Кроме того, он в течение двух десятков лет был главным редактором московского издательства «Книга», продукция которого давно стала классикой. «Человек книги» – воспоминания А.Э. Мильчина о семье, о детстве, об учебе в Полиграфическом институте и, главное, о работе в издательствах «Искусство» и «Книга», о советской цензуре, о том, как советские начальники пытались руководить культурой. Но это не просто мемуары, а мемуары редактора, поэтому автор постоянно размышляет о том, что такое редакторский труд, в чем его смысл.
Человек книги. Записки главного редактора - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
9.10.03. МР.Должен сказать, что Вы – один из немногих моих корреспондентов, в общении с которыми вспоминается то значение переписки, которое она имела во времена наших дедов и прадедов. А что касается работы редактора, то, на мой взгляд, это очень интересная тема, проработка которой может оказаться существенной для гуманитарной мысли.
Если не ошибаюсь, по опыту работы с Молоком и с Вами работу редактора надо понимать как создание условий и предварительную организацию диалога автора с читателем. <���…> Это ведь очень специфический диалог, отличающийся от разговора и переписки тем, что его структура не симметрична. Язык-то, как известно, умнее нас: с одной стороны, есть собеседники, корреспонденты, а с другой – автор и читатель.
23.10.03. МР.Возвращаясь к Вашему письму от 8.10, когда я пишу о таланте редактора, то это не комплимент, а тезис. <���…> А именно, я говорю о работе редактора как об особом типе мыследеятельности (надеюсь, Вы уже привыкли к этому неологизму? Он довольно неуклюж эстетически, но лучшего пока никто не предложил), к которому применимо обычное мое деление на редактирование-2 («творчество») и -1 (исполнение своих функций согласно должностной инструкции) [48]. Второй случай (1) отличается выпадением мыслительной составляющей: остается голая деятельность, воспроизводимая по норме. Тогда можно говорить о профессионализме, мастерстве, но о таланте – вряд ли. В Вашем же отношении к тексту всегда чувствуется мысль. (Помните, Вы мне писали недавно, что последнюю мою статью дочитывали механически, и это Вас явно не удовлетворяло.) Поэтому мне так хорошо с Вами работается.
1.11.03. АМ.…порой мне в голову лезла крамольная мысль. Коль скоро я упрекал Вас в некоторой усложненности какой-то из статей, то вправе ли я был это делать, не попытавшись литературной правкой упростить изложение, сделать его более доступным не привыкшему к научным текстам читателю, не показав Вам на примерах, как это можно было бы сделать. «Не облегчаю ли я себе редакторскую жизнь и работу?» – задавал я сам себе вопрос. Тем более что моя сила и слабость как редактора состоит как раз в том, что я очень легко проникаюсь мыслями и стилем автора, быстро становлюсь его единомышленником, и это снижает мою критичность, из-за чего не все нуждающееся в поправках оказывается исправленным. Можно сказать, что я соглашатель. Не раз моя жена, тоже редактор, читая за мной тексты, которые я редактировал, указывала на не замеченные мною погрешности. Это повергало меня в уныние, но ничего не изменяло в дальнейшей редакторской работе. Натура сильнее разума.
8.11.03. АМ.…Что касается Вашего вопроса, стоит или не стоит «бросить такой хулиганский тезис» о том, что гуманитарные науки не науки, а нечто иное, то уверенности в том, что это ляжет в книгу уместно и гармонично, не испытываю, хотя мне лично эти Ваши соображения очень дороги и интересны. И вот почему. Когда я начал задумываться о том, что такое редактирование как предмет, учебная дисциплина, мне это нужно было, чтобы осмыслить собственную работу и точнее определить, чему и как я должен учить слушателей курсов и факультета повышения квалификации. Тем более что в Полиграфическом институте эта дисциплина странно называлась «Теория и практика редактирования», хотя в учебнике с таким же названием трудно было обнаружить и то, и другое. Я в конце концов посчитал, что предмет «редактирование» – предмет чисто практический, методика деятельности. Но, с другой стороны, не мог не понимать, что без каких-то теоретических основ этой работы ничего руководящего слушателям дать не сможешь. Как искусство редактирование почти целиком зависит от исполнителя. И все же что-то вроде руководящей звезды ему необходимо, чтобы меньше совершать ошибок и лучше творить свое искусство, поскольку научить искусству, вообще-то говоря, нельзя.
Но т. н. теорию и практику редактирования всерьез считали одной из наук, входящих в книговедение. А я еще и собрался диссертацию писать и защищать, выбрав темой «Теоретико-методические основы редакторского анализа». Но я что-то расписался. Кандидатскую я защитил в 1977 г., но думать иначе не стал, хотя и в ней своим мыслям не изменил. Так вот такая «наука», как редактирование, хорошо вписывается в Вашу концепцию, хотя Вы больше оперируете серьезными гуманитарными науками, а может быть, точнее, дисциплинами. Сначала я очень удивился, когда Вы вывели методологию за пределы наук. А теперь Вы и философию отправляете туда же. Впрочем, это последовательно: ведь методологию, вероятно, следует отнести к комплексу философских дисциплин. Или я ошибаюсь?
<���…> Вы спрашиваете, есть ли хорошие книги о редактировании. Это ставит меня в неловкое положение. Хороших нет. Но я был бы рад, если бы познакомились с моей книгой «Методика редактирования текста» (2-е изд. М., 1980), в 1-м издании «Методика и техника редактирования текста» (М., 1972). Не потому, что я считаю ее хорошей. Как раз у меня очень много к ней претензий. Во многом, когда я ее писал, я пошел по пути компромиссов. Основная претензия у меня к ней, что ее главы, которые рассматривают анализ и оценку разных сторон редактируемого произведения, не растут из одной точки, а построены по-разному, исходя из собранного мною материала, а не из какой-то ясной концепции. Т. е. я строил материал, а не подбирал материал под идею. Это свидетельствует о том, что я не нашел единого корня для развития представлений о работе редактора над различными сторонами произведения.
Еще одна претензия – налет идеологического, т. н. классового подхода, без чего ее нечего было пытаться издать, хоть он и невелик, но все же присутствует. Да и рецензент, редактор Политиздата, заострил на этом внимание, посчитал, что я недостаточно развил ленинский, партийный подход, но, слава Богу, Госкомиздат, который должен был дать издательству разрешение на выпуск книги ее работника, да еще главного редактора, отнесся к этому формально и ни на чем не стал настаивать. Тем более что общий вывод рецензента был весьма положительным.
Как раз в научной стороне этой книги, в ее методологии, я совсем не уверен, а практическая ее польза несомненна и проверена временем. Читатели (среди них медики, экономисты и другие сочинители деловых текстов) писали мне благодарственные письма по той причине, что моя книга помогала им писать статьи и книги лучше, чем они это делали ранее. То, что должны были анализировать и оценивать редакторы, одновременно было тем, что полезно знать пишущим. Ведь этому действительно никто не учит. А я к тому же старался быть очень прагматичным. Тем не менее получается, что я считаю возможным рекомендовать Вам свою книгу, когда Вы просите порекомендовать хорошую книгу о редактировании, а я считаю ее такой лишь частично.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: