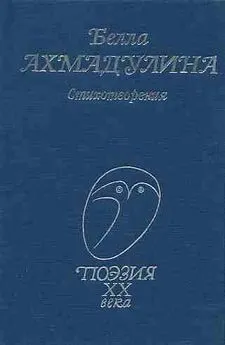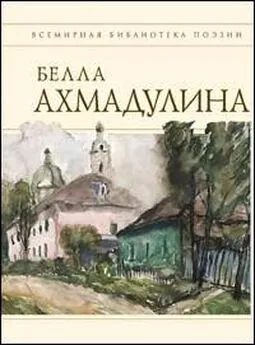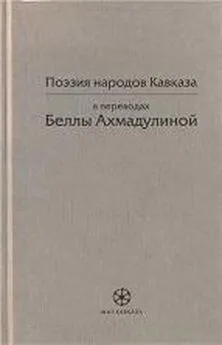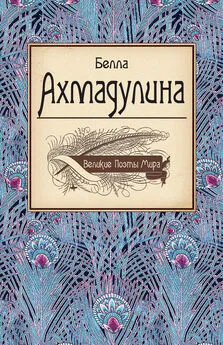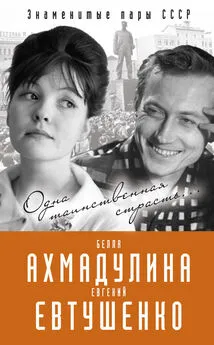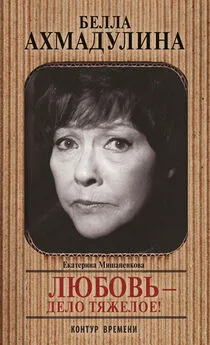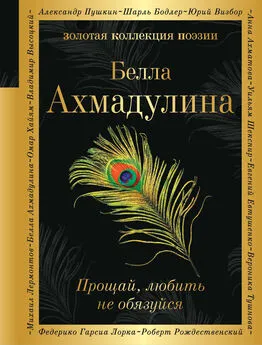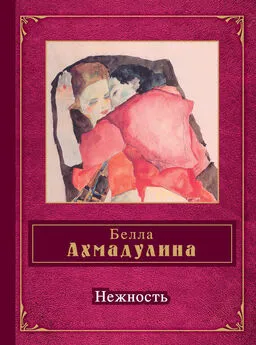Белла Ахмадулина - Миг бытия
- Название:Миг бытия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф
- Год:1997
- Город:Москва
- ISBN:5-7784-022-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Белла Ахмадулина - Миг бытия краткое содержание
Воспоминания и эссе Беллы Ахмадулиной, собранные в одной книге, открывают ещё одну грань дарования известного российского поэта. С «напряжённым женским вниманием к деталям… которое и есть любовь» (И. Бродский) выписаны литературные портреты Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Владимира Набокова, Венедикта Ерофеева, Владимира Высоцкого, Майи Плисецкой и многих-многих других — тех, кто составил содержание её жизни…
Миг бытия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Действующие лица помещены в Н-ской губернии, но воображение льнёт к близости Петербурга, соотнося сосны, берёзы, молодой ельник, туалеты дам, осанку кавалеров и вольное усмотрение сочинителя. Это был доброкачественный, добропорядочный, двояко отчётливый круг: средне-высший, статско-военный, замкнуто-широкий. Знали бы они, что семьдесят семь лет спустя кто-то войдёт в их круг через увеличительное стекло, чтобы любить их, любоваться ими, скрывать от них обречённость всего, что кажется им незыблемым, неотъемлемым, необоримым.
Нечего каркать, у них впереди — целый год, даже больше года, это чудное лето молодо-зелено, у меня же, для соседства с ними, — минувший день, иссякающая ночь, они могут медлить, я спешу. Они медлят, я спешу, но и следующая, нынешняя, ночь на исходе. Значит ли что-нибудь для них, что я прихожусь им незримым сторожем с неслышимой колотушкой, упасающим их покой? Но это у меня осень и ночь под утро, у них — летний полдень, они всё так же покойны и беспечны. Я прижилась к ним, я знаю о них больше, чем они, не проболтаться бы ни им, ни Вам. Кое-что всё же можно сказать, не нарушив щепетильных правил.
Молодая дама и офицер разделены деревом, наглядной чертой невидимых препон, но осязаемый пунктир пульсирует между ними, съединяя их в остановленном мгновении, сохранном поныне. Только они смотрят в объектив, только для них это важно. Через минуту они встанут и пойдут по аллее. Она откроет и закроет зонтик. Спросит; — Когда вы едете? — Завтра. — Новое назначение благоприятно? — В известном вам смысле. И в том смысле, что везде одно и то же. — Вот как? — Я хотел сказать: для меня, во мне.
Он смотрит на анютины глазки, приколотые к атласному поясу белого платья. В его сапогах отражается свет, на лице лежит тень, в значение которой она будет бессмысленно вчитываться в декабре следующего года. Привычный уже заголовок газетных сообщений, предшествующий списку убитых и раненых, покажется несообразным, непонятным:
«С ТЕАТРА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ».
Горничная подумает, что барыня сделалась похожа на слабоумную кухаркину девочку. А она всё будет повторять про себя: — Откуда? Ах, да, с театра. Но что за театр такой? Действий, разумеется. Зачем, каких? Военных. С театра. Военных. Действий.
Зато он никогда не узнает, и дико, несусветно, безобразно было бы жить и знать, что через малое страшное время от всей её прелести и гордыни останется обрывок тюля, осколки зеркал, букет анютиных глазок, раздавленный пьяным подкованным каблуком. Но я — автор сочинения — не хочу, не позволяю. Пусть не год, не лето, но целый тот день ещё принадлежит им, их силуэты ещё видны в бесконечной аллее, и теперь видны.
Я привыкла ко всем участникам фотографического сюжета, привязалась и к полным дамам в брюссельских кружевах, даже к той, в шляпе с высоким эспри, делающей кому-то ручкой, пока изящный ироничный офицер, всеобщий и мой любимец, поднимает и преподносит оброненный платок. Он видим нам во всю свою складную долговязость, умеющую умерять глиссаду вальса, преломляться в колене, безукоризненно облекать бока обожаемой лошади. С какой стати мне отпустить его в близкую погибель? Пусть на той же пиршественной лужайке выпьет весёлого вина, перемолвится словом с приятелем, тем, с меланхолическими глазами и усами, тайком посвящёнными Лермонтову, чем и был дразним.
Я не стану смущать милую супругу высокопоставленного лица, застенчиво позирующую в велосипедной упряжке. Она известна чистотой религиозных чувств и благотворительной деятельностью, её тяготит богатство, и напрасно, вскоре она совершенно искупит его греховность.
Трое скептических офицеров отвлечены от вина фотографом, один, ещё не раскуривший сигару, раздражён докучливой помехой. Не говорить же им до времени, что они проиграют войну. Жизнь — что? — она заведомо посвящена России, но и Россию они проиграют. Или нет?
При снисходительности офицера в белом кителе, скрытом неодобрении нижних чинов и любопытстве местных ребятишек дама неловко целится из винтовки. Пусть всегда пребывают в той же позиции, не зная, что они — сами мишень, уже взятая на прицел теми, кто не промахнётся, хоть и стреляет хуже, чем они.
Мне жаль прощаться с ними, но я оставляю их не на растерзание грядущему, а разгару лета и беспечного пикника, вблизи породистых вин и десерта, увенчанного ананасом.
Ещё не вечер, более года остаётся им до Сараевского убийства и последующих событий. Я желаю им счастливого пиршества, драгоценных великих пустяков, из коих состоит выпуклая, живая, как бы бессмертная жизнь на снимках. Пусть здравствуют и благоденствуют, пока возможно. Безмолвно добавляю: Вечная память.
1990Созерцание стеклянного шарика
Ладони, прежде не имущей,
обнова тяжести мешает.
Поэт, в Германии живущий,
мне подарил стеклянный шарик.
Но не простой стеклянный шарик,
а шарик, склонный к предсказаньям.
Он дымчатость судьбы решает.
Он занят тем, чего не знаем.
Когда облёк стеклянный шарик
округлый выдох стеклодува,
над ним чело с надбровным шрамом
трудилось, мысля и колдуя.
Пульсировала лба натужность,
потворствуя растрате лёгких,
чей воздух возымел наружность
вместилища миров далёких
Их затворил в прозрачном сердце
мой шарик, превратившись в скрягу.
Вселенная в окне — в соседстве
с вселенной, заточённой в склянку.
Задумчив шарик и уклончив.
Мне жаль, что он — неописуем.
Но так дитя берёт альбомчик
и мироздание рисует…
Это — не эпиграф, это — начало стихотворения.
Может быть, и впрямь, препона моим стараниям заключена в упомянутом неописуемом шарике? Вот он отчуждённо и замкнуто мерцает передо мной с неприступным выражением достоинства, оскорблённого предложением позировать и подвергать обзору и огласке свою важную тайную суть. Одушевлённая стеклянная плоть твёрдо противится вхожести дотошного ума, хоть они весьма знакомы. Но на что годен сочиняющий ум, который знает, а упорхнувшая музыка о нём знать не хочет, звук — беспечный вождь и сочинитель смысла. Своевольный шарик — не раб мой, угодливо отнесу его в привычные ему покои письменного стола, а сама чернавкой останусь на кухне и начну о нём судачить. Полюбовалась напоследок, напитав его светом лампы, — и унесла.
Как и написано, шарик этот благосклонно подарил мне поэт, в Германии живущий. Он был немало удивлён силой моего впечатления при получении подарка. Умыслом и умением стеклодува, округлое изделие, изваянное его лёгкими, изнутри было населено многими стройными сферами: более крупными, меньшими и маленькими, их серебряные неземные миры ослепительно сверкали на солнце, приходясь ему младшими подобьями. В сердцевине плотно-прозрачного пространства грациозно произрастала некая кроваво-коралловая корявость, кровеносный животворный ствол — корень и опора хрупкой миниатюрной вселенной. Её ваятель с раскалёнными щеками не слыл простаком: и ум знал, и музыка ума не чуралась. И шарик мой был не простой, а волшебный, что не однажды и только что подтвердилось.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: