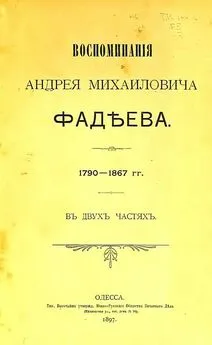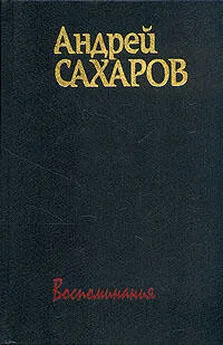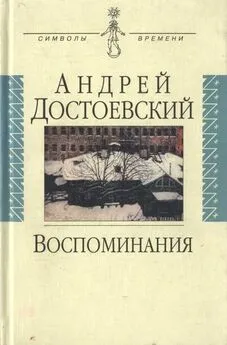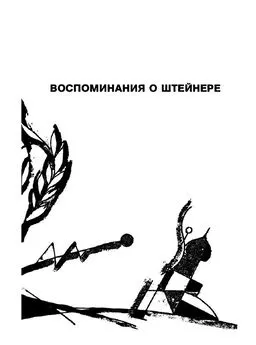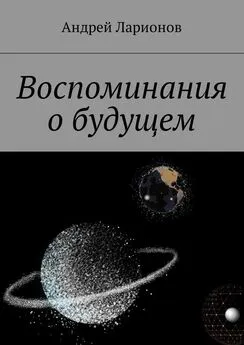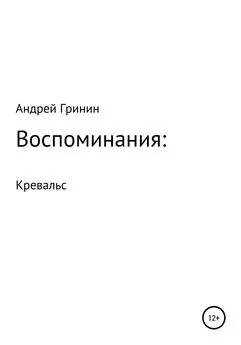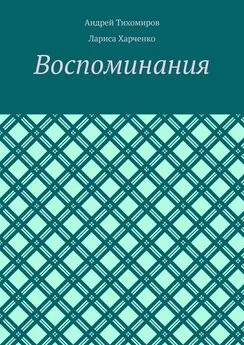Андрей Фадеев - Воспоминания
- Название:Воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Типография Акционерного Южно-Русского Общества Печатного Дела
- Год:1897
- Город:Одесса
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Фадеев - Воспоминания краткое содержание
Андрей Михайлович Фадеев — российский государственный деятель, Саратовский губернатор, позднее — высокопоставленный чиновник в Закавказском крае, тайный советник. С 1817 по 1834 год он служил управляющим конторой иностранных поселенцев в Екатеринославле. Затем был переведён в Одессу — членом комитета иностранных поселенцев южного края России. В 1837 году, после Одессы, А. М. Фадеев был назначен на службу в Астрахань, где два года занимал пост главного попечителя кочующих народов. В 1839 году Андрей Михайлович переводится в Саратов на должность управляющего палатой государственных имуществ. 1846 года Фадеев получил приглашение князя М. С. Воронцова занять должность члена совета главного управления Закавказского края и, вместе с тем, управляющего местными государственными имуществами. Оставаясь на службе в Закавказском крае до конца своих дней, в 1858 году был произведен в тайные советники, а за особые заслуги при проведении в Тифлисской губернии крестьянской реформы — награжден орденом Белого Орла (1864) и золотой, бриллиантами украшенной, табакеркой (1866).
«Воспоминания» А. М. Фадеева содержат подробную автобиографию, в которой также заключается много метких характеристик государственных деятелей прошлого, с которыми Фадееву приходилось служить и сталкиваться. Не менее интересны воспоминания автора и об Одессе начала XIX века.
Приведено к современной орфографии.
Воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я на этот раз мало пользовался столичными развлечениями. Они и прежде не особенно привлекали меня, а теперь мне было не до них; я предоставил моим дочерям забавляться удовольствиями Петербурга, что они и делали очень охотно, тем более, что для дочери Кати все здесь являлось новым и любопытным. Однажды они меня уговорили пойти с ними в театр на Роберта-диавола, но я не досидел до конца. Сын Ростислав большею частью оставался дома за своими книгами и географическими картами, и интересовался только музеями, арсеналами, картинными галереями и древностями. Он с малолетства отличался философским расположением духа и всегда любил сидеть дома.
Между тем, меня беспокоили письма жены моей: она давно страдала слабостью глаз; теперь же, может быть, от слез после смерти отца, это страдание усилилось. Астраханские доктора ее напугали, и она боялась ослепнуть так же, как и отец ее. Я с детьми настаивал, чтобы она приехала немедленно к нам в Петербург посоветоваться с лучшими окулистами, но она не соглашалась и писала нам, что предпочитает дождаться нашего возвращения и поехать с детьми в Пятигорск полечиться водами.
Пребывание мое в Петербурге затянулось дольше, нежели я предполагал. Граф Киселев убеждал меня служить у него по новому управлению над казенными крестьянами. Не зная еще результата о себе по нашему министерству, я не мог вдруг решиться на это, и Прежде чем успел дать ему какой-либо отзыв, граф Киселев, увидевшись с графом Блудовым, просил его, чтобы он уступил ему меня. Последствием было то, что граф Блудов несколько на меня посетовал, думая, что я сам ищу этого перемещения; но неудовольствие прошло, когда я объяснился, и несколько дней спустя, граф мне объявил, что намерен дать мне некоторые особые поручения и вместе с тем, по желанию Киселева, соединить их с поручением мне и от него, и что обдумав, как это лучше сделать, вскоре отправит меня обратно. Действительно, через несколько дней, граф Димитрий Николаевич поручил мне обозреть внимательнее калмыцкие улусы и саратовские немецкие колонии; а пред отправлением моим обратно в Астрахань, граф Киселев, по соглашению с графом Блудовым, возложил на меня поручение, сверх калмыцких и немецких дел, обревизовать поселения и государственные имущества Астраханской губернии и Кавказской области. По окончании этих комиссий, я должен был к зиме, или зимою, прибыть снова в Петербург для представления о них отчета. На дорожные издержки выдали мне порядочные деньги, да еще в помощь дали двух чиновников, надворных советников Франка и Нейдгарта.
К этому времени я успел окончательно устроить и Ростислава. На несколько месяцев, для приготовления его к вступлению в артиллерийское училище, я поместил его у родного племянника моего, Александра Александровича Фадеева, служившего в гвардейской артиллерии и одного из лучших преподавателей в этом самом училище, вполне знавшего свое дело, отличного офицера [47]. Он обещал приготовить Ростислава к новому году. Брат мой Павел Михайлович, артиллерийский генерал, постоянно находившийся на службе в Петербурге, также готов был оказать ему всякое содействие и участие. Я сделал все, что мог придумать лучшего, моля Бога, чтобы это послужило на пользу и добро моему сыну. Тяжело было нам расстаться с ним, оставить одного в чужом месте так далеко от нас. Тяжело было и бедному мальчику разлучиться с нами, оторваться от родной семьи.
Я выехал восьмого мая с дочерью Екатериной, взяв с собою и старшую дочь мою с ее двумя маленькими дочерьми, как для свидания с матерью, так и для того, чтобы отправить ее вместе с нею в Пятигорск на минеральные воды, в коих они имели надобность по причине усилившихся болезненных явлении. Не доезжая до Астрахани восемьдесят верст, мы заехали по дороге к князю Тюменю и были обрадованы, застав там жену мою с дочерью Надею, выехавших к нам на встречу. Оттуда 20-го мая мы все вместе поехали в Астрахань водою на больших лодках. Пробыв в Астрахани две недели, мы отправились опять все вместе 9-го июня в Пятигорск, так как и я должен был тоже ехать на Кавказ по делу. Проехав сто верст по почтовому Кизлярскому тракту [48], мы своротили с него направо, в калмыцкие степи, где путешествие наше приняло очень оригинальный вид. Нам пришлось продолжать наше странствие преимущественно на верблюдах, выставленных заранее калмыками, для нашего проезда, и испытывать большой недостаток в воде. Верблюдов запрягали в экипажи, как лошадей, парою в дышло, и эти прославленные «корабли пустыни», столь полезные в азиатских караванах, и выносливые в аравийских пустынях, оказались ленивейшими и несноснейшими животными в астраханской степи. Тотчас по упряжке, они шли своим плавным, чопорным шагом версты две-три, затем один верблюд, без малейшего основания, ложился на землю, его товарищ следовал его примеру, и уже не было никакого средства заставить их подняться, кроме одного: освободить от упряжи и впрячь других, которые, пройдя две версты, неминуемо устраивали тот же самый маневр, что нам значительно замедляло дорогу. Вероятно, верблюды выказывали этим протест против упряжи и не хотели ей покориться. Степь представляла собою сплошную, необозримую массу песку, разносимого ветром высокими буграми, в роде подвижных гор, с места на место, и против силы ветра с песком почти невозможно было устоять на ногах. Изредка зеленели, или вернее сказать, рыжели, кустики полувысохшей полыни, и иногда попадались неглубокие колодцы с водою, такой горькой и противной на вкус, что даже верблюды отказывались ее пить. Мы взяли с собою в запас несколько бочонков воды, но от солнечного припека она скоро так согрелась, что не годилась к употреблению. Далее но пути стала проявляться растительность, трава, которая понемногу своей зеленью заменила желтизну песка. Мы ночевали одну ночь в соляной заставе, другую в степи, а третью в калмыцком кочевье, где калмыки приняли нас очень радушно. Они даже устроили в честь нашу торжественное богослужение в кибитке, заменявшей им хурул, т. е. капище. Десятка полтора гелюнгов, сидя в два ряда одни против других, поджавши ноги, перед возвышением, уставленным бурханами (идолами), играли на трубах всех постепенных величин, начиная от длинных, сажени в полторы, до самых коротеньких, вершка в два. Эта музыка разнородных, гремящих и свистящих звуков, то оглушительно резких, то тихо дребезжащих, иногда резала наши непривычные уши, но в совокупности, раздаваясь и разносясь по беспредельной степи, составляла странную, фантастическую гармонию, не лишенную какого-то дикого величия, производившего особенное впечатление. На четвертый день, мы доехали до берегов Кумы, где нашли хороший отдых со всеми удобствами, у известного шелковода, кавказского помещика Реброва (теперь уже столетнего старца, но все еще существующего) [49], — в деревне его «Владимировке». Для желавшего познакомиться с бывалым на Кавказе и за Кавказом, беседа с ним представляла много интереса и занимательности. Ребров состоял некогда правителем канцелярии у первого главного начальника в Грузии, по занятии ее русскими, генерала Кноринга, а потом, кажется, и некоторое время у князя Цицианова. От Реброва мы отправились чрез русские деревни по Куме в Пятигорск, куда и прибыли 16 июня. Там я сделал несколько новых знакомств и возобновил старое с князем Владимиром Сергеевичем Голициным, умным балагуром и большим остряком и гастрономом, которого знал еще в 1815 году, — тогда молодым, красавцем гусаром, а теперь встретил уж претолстым генералом. Впоследствии он был знаменитым сочленом Московского клуба и умер в прошлом году.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: