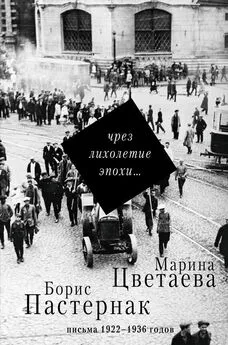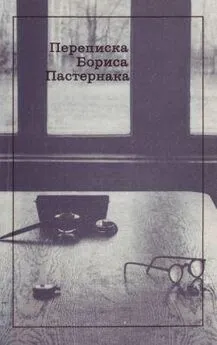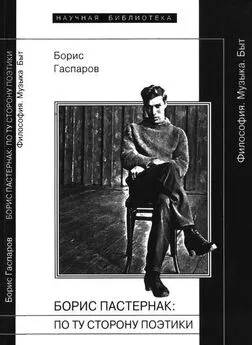Борис Пастернак - Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов
- Название:Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентАСТc9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-097267-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Пастернак - Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов краткое содержание
Письма Марины Цветаевой и Бориса Пастернака – это настоящий роман о творчестве и любви двух современников, равных по силе таланта и поэтического голоса. Они познакомились в послереволюционной Москве, но по-настоящему открыли друг друга лишь в 1922 году, когда Цветаева была уже в эмиграции, и письма на протяжении многих лет заменяли им живое общение. Десятки их стихотворений и поэм появились во многом благодаря этому удивительному разговору, который помогал каждому из них преодолевать «лихолетие эпохи».
Собранные вместе, письма напоминают музыкальное произведение, мелодия и тональность которого меняется в зависимости от переживаний его исполнителей. Это песня на два голоса. Услышав ее однажды, уже невозможно забыть, как невозможно вновь и вновь не возвращаться к ней, в мир ее мыслей, эмоций и свидетельств о своем времени.
Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«– Ну, а я <���подчеркнуто трижды>?!!»
Ты? Последнее здесь, как Рильке первое там, то последнее, чего я захотела и не получ<���ила>. И еще, Борис, Россия так далёко, после вчерашнего смотра войск (в отд<���еле> Смесь)
еще дальше, после сегодняшней крестьянки М., учащейся стрелять по портрету Чемберлена, – еще дальше, Рильке на том свете, а Россия всей прор<���вой> сво<���ей> так<���ой> ту-свет, что м.б. вру, говоря последнее здесь, м.б. – перв<���ое> там .
Вот тебе отчет.
Письмо 154
<���ок. 6 марта 1928 г.>
Пастернак – Эфрону
Дорогой Сергей Яковлевич!
Сейчас, на этой незаписанной странице, я ищу поддержки у Вас. Утренний час, я захожу за Вами и, не сказавши М., мы с Вами бродим по нижеследующим строкам, они ленятся на солнцепеке, по ним, из пятой в десятую, поют петухи, мы с Вами давно перешли на ты и обходимся без отчеств. Я рассказываю Вам, как глупо и болезненно я устроен, как множеством роковых случайностей намеренно затруднен, заторможен мой шаг. Как, позабыв обо всем, чему успели научить годы, вдруг, на смену рабочему уединенью, начинаешь принимать людей и ходить если не к ним, то в места, где их можно встретить. Как двоит и принижает симпатия, идущая, вероятно по недоразуменью, путями, на которых ее нельзя принять и на нее ответить. Как наблюденья, произведенные не в пользу наблюдаемых, уничтожают не их, а тебя. Как, повесив голову и с опустившимися руками, возвращаешься в свое логово. Но неузнаваемо уже и оно, оскорбленная твоим отсутствием, ревнивая работа, как оказывается, оставила его на этих днях; она сбежала не сказавшись куда, и в ее добровольное возвращенье веришь только оттого, что уж кому-кому, а ей известно, как она тебя наказала, и положенья этого не выдержит и сама. Но время идет, на свете есть смерть, между тобой и теми единственными, которых любит и она всем своим раскинутым миром – неисчислимые версты и препятствия; чтобы их одолеть, нужны деньги, для этого надо работать без перерыва; зачем же, играя мною, она так страшно рискует сама? Ведь эта встреча – ее подорожная, ведь Вы нужны ей не меньше, чем мне. Или это круг, из которого нет выхода? Трезвеешь ты, – теряет голову твое назначенье: собираешься весь в комок почти непосильного, изматывающего благоразумья – безумеет твоя работа. И вот мы бродим с Вами, уходим незаметно за Девичье, верим, что скоро заговорят колеса, и, близкие друг другу люди, делаем друг с другом чудеса. То я, легко и отрывисто, отвечаю Вам на Ваши рассказы то, что должен был бы Вам сказать облачный кругозор, то в ответ на свои слова слышу и от Вас такие же возраженья. Скользят лошади, блещут крыши, мы расходимся, пьяные и осчастливленные, убедясь еще раз, что дружба – вещь баснословная и сверхчеловеческая, что другом называется тот, кто одаряет словом воду и воздух и, зарядив их этим даром, оставляет потом с тобой.
Я пишу Вам в состоянии очередного упадка. Были встречи, слышал глупости, видел мерзости, видел одаренных людей, которые преждевременно впадают в детство. Видел вчера новую кин<���ематографическ>ую картину талантливого режиссера, автора «Брон<���еносца> Потемкина», на тему «Октябрь». Режиссер и оператор рослые, светлые, молодые, хорошо сложенные, достойные люди. Был просмотр для литераторов, для печати. Были лефовцы, были все, для кого сделана картина. По просмотре из зрительного хлынули толпой в другой зал, вроде фойе. По смежности находилась темная каморка. В ней скрывались оба автора фильма. В зале толпились люди, похвалы которых были обеспечены. Черт их дернул, постановщиков, зазвать, кажется первым, меня в эти взволнованно-именинные потемки. «Вы нам скажете правду, как еще ее услыхать». Они стояли торжествующие, молодые, а приходилось говорить им безнадежные неприятности. Но зато и беспардонна нравственная сторона картины. И это – история?! Все, что не большевики – пошлая карикатура. Вроде Эренбурговой… иронии.
<���На полях:>
Никак не судите этого странного письма. Его вдруг оборвали эти кинематографщики. Перед ним шла волна признаний Марине и Вам, Вам и жене и жизни, Марине, Вам, жене и жизни и судьбе. Вы все это знаете. Дай Бог, чтобы все мы созрели в один час и никто не запоздал.
Обнимаю Вас. Ваш Б.П.Письмо 155
<���ок. 10 марта 1928 г.>
Пастернак – Цветаевой
Моя родная, моя родная! От тебя давно нет писем, и я тебе написал дурацкое (а какое и напишешь?), и чего доброго первое, что ждет меня от тебя, будет заслуженным ответом. Когда я получил твои подарки, я дважды начинал тебе писать и рвал написанное; не говори, что не надо было: было б тяжелее и тебе. Меня качало от одного поминанья твоего имени, мне вдруг захотелось разом кончиться в твоих руках и чтобы из них меня получили Женя, и Сережа, и дети, и все, у кого столько прав, оплаченных недолетами, обидами, недоуменьями, всей тихой безмолвной музыкой безмолвного «за что», «зачем». Ведь я только иногда справлялся с тугостью этого никому вполне не известного беатричианства, где ты так круто вдвое переплетена с временем, вдоль всей его стальной струны, где ты единственное и с лихвой достаточное объясненье, оправданье, ключ и смысл всего, что я делаю и чего не делаю, и всего, что делается со мной. Ведь по правде говоря, 23-я тоска и разлука никогда не кончались, никогда не становились чем-нибудь другим. И я умоляю тебя. Напиши мне что-нибудь в духе нашей трезвейшей и спокойнейшей переписки, а то все попа́дает из рук и ничего никогда не будет. Ради Бога, помоги мне и скажи, что это тебе не нужно, что ты знаешь, слышишь, слышала. Ведь это слово, как пробка в квасной бутылке, тронь – и кончено. Оно непроизносимо в разлуке. Я рад, что оно не прорвалось. Как мне трудно без тебя. Горячо благодарю тебя за подарки. Р.Роллан и Конрад, конечно, и мои любимейшие. Я мало их знаю. Ж<���ан> Крист<���оф>, музыкальные монографии, два-три романа Конрада. Как ты живешь, т. е. нет ли неотложной надобности в деньгах? О, прости, ведь я знаю, что – есть. М.б. что-нибудь удастся сделать до Люверс.
<���На полях:>
Сейчас сделаю ужасное признанье. Заговорив о материальном, почувствовал облегченье. Матерьялизация разреженной муки в заботе. Звери мы. Порода – добрые.
Обнимаю тебя без конца. Ведь кроме тебя я никого здесь не помню, ни с кем не видаюсь.
Письмо 156
31 марта 1928 г.
Пастернак – Цветаевой
Дорогая Марина, я не писал тебе вечность, соответственно этому и на душе у меня. А конечно, надо было ответить тебе тотчас, в особенности насчет того, что ты назвала «физиологией творчества». А ты думаешь, у меня иначе? La sécheresse morale [145]? А летние стихи? Не Х<���одасеви>ч? Недавно скончался сосед по квартире, один из уплотнителей, старик, первым перебравшийся к нам еще в 19-м году, когда по дому выселяли. Кстати, знаешь сколько у нас сейчас народу в квартире, бывшей когда-то папиной, казенной? 21 человек! В комнаты обращены: передняя, ванна, одна комната поделена перегородкой надвое. 6 семейств. Ну так вот, на этом отпеваньи не узнал себя, глаза сухие, всё мимо. И ты во всем права, но вот тут-то унывать и нечего. Страшно было бы, если бы у тебя было по-другому. – Марина, вытерпи, про времени <���приставка подчеркнута дважды>, как хочешь и знаешь, и не стыдись сердечной унизительности этого состоянья. Оно кажется тебе: личным, т. е. лично твоим, зависящим от возраста и главное – окончательным. Таким оно кажется тебе именно потому, что ты молода, и оно, пусть даже с год или больше, приходит к тебе впервые. Я не так сказал. Я должен был сказать: оно кажется тебе лично твоим и окончательным, потому что ты – у его начала и не видишь ни смысла его, ни происхожденья. Ничего об этом не мог знать Пруст, и ничего тут нет похожего. В этом споре с тобой мне не интересны твои доводы и возраженья, не потому что они – во вред тебе, а потому что твои молодые заблужденья насчет этого «перерожденья» могли бы меня растрогать в близости и заставили бы целовать тебя, как ребенка вслед за каким-нибудь особенным проявленьем его детскости, и они совершенно неинтересны, т. е. ими нельзя живо взволноваться на расстояньи. Если Х<���одасеви>ч действительно таков каким он тебе представляется, то вот уж кто наверняка не знает того, о чем ты пишешь. Я м.б. лучшего мненья о нем. Я думаю, что sécheresse marinienne [146]и моя, известны и ему , хотя как кажется, в противоположность нам, ни на стихах его ни на поведенье не отражаются . – Насколько мне известна эта тема, суди из тона, которым полно письмо: это уверенность инстинктивно перекинувшаяся из предмета в голос. Я был у начала этого состоянья давно, еще когда ходил к тебе с письмами С<���ереж>и в Борисоглебский. Тогда оно приходило кусками еще, налетами, как, верно, к тебе в последние годы. Так, как оно утвердилось у тебя в самое последнее время, оно у меня оформилось в заграничную поездку в 22–23 году. Ты думаешь, после «Верст» я не сумел, как надо, прочесть твои первые письма в Берлин, те весенние, где ты прощалась и напутствовала? Для меня было тогда мукою не то, что я был мертвой особью (я ею не был), а то, что смысл твоих писем был в живом будущем следующего мгновенья, а между тем предо мной, отделяя меня от его даты, лежал неотменимой полосою мертвый период , истинной длины которого я не знал. Половину сказанного я понял теперь, половина сказалась уже и тогда в противоречивостях тогдашнего ощущенья. Это состоянье и мне тогда должно было казаться лично моим и окончательным. Возвращенье мое сюда было ужасно. Я был открытьем этой sécheresse [147]оглушен и нравственно для себя уничтожен. По своей удручающей честности я нес свою робость и растерзанность перед собой, как заполненную анкету, я сам себя стирал в порошок и отдавал на затирку. Я ходил, как клеймленый и провинившийся, повеся голову, делал адову работу за неслыханные гроши, наконец понял, что «пора бросать», и стал искать службы. Я так искал ее, что, конечно, не скоро смог найти. Замечательно, что и тут я казался себе ничтожеством, т. е. умудрился позабыть, что кончил университет и что-то знаю, и т<���ак> к<���ак> думал, что ничего не знаю и ни на что не гожусь, а следовательно, и все равно, за что приниматься, то засел изучать статистику, в надежде на то, что с ее знаньем легче найду себе место. (По образов<���анию> я филолог.) В моих столкновеньях с Есениным больше был виноват я сам, нежели он. Я сам на это напрашивался и подавал повод. Я говорил тогда так, как ты сейчас. Вот он мне и возвращал истины, бывшие в первоисточнике моими же словами. А говорил я точь-в-точь, что ты сейчас, потому что, оскорбленный этим новым душевным обличьем, смысла которого не понимал, я и не щадил себя в нем, и уничтожал, и ненавидел. Но довольно размазывать. Вот что хотел я сказать. Работать я начал, когда увидал, что состоянье это временное, а не окончательное, и не мое, т. е. не меня в поэте , а поэта во мне, т. е. не Маринино, а – Цветаевой. Но я еще не вполне это понимал и перенадеялся. Я начал писать Спекторского, которого писал наивно, собой и поэтом сразу, т. е. Мариной Цветаевой, а это было рано тогда до безумья, – начал и сорвался. Вдруг я понял, что писать надо силой и страстью именно этой sécheresse, именно этой страны во мне, истории во мне, именно потрясающей жалостностью несчастного поэта во мне, всегда обставлявшем его порывистее, богаче и сердечнее, чем он теперь обставлен историей и судьбою. Что из этого что-то выйдет. Выйдет? Значит тут-то и будет выход (это не игра слов) и у этого выхода опять мы встретимся. И вся эта книга так именно написана. Она писалась так бездарно, так неслыханно по-Х<���одасеви>чески, что если бы тебе даже эти уловки двойникового состраданья (себя к поэту во мне) явились в полуобморочном бреду или во сне, ты бы их не увидала , твой талант отразил это виденье и встал между тобой и им. Все почувствовано на одном лишь крепком чаю. – Давай я кончу пока, а то я заговорился и буду повторяться. И когда ты это получишь? Лучше отправлю сейчас. Я верю в твою волю. Все в ней. Ты (хронологически) пришла к этому поздно, и проходить придется не долго. Что это не окончательное состоянье, видно из того, что оно тебе поперек встало. Иначе ты бы не заметила его. Твое страданье – твой размер, твой огонь. Ты еще будешь радоваться именно так, как не чаешь . Обнимаю тебя.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: