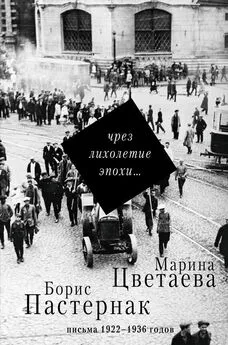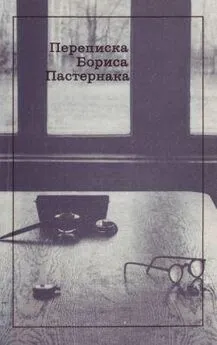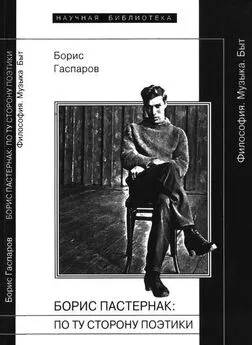Борис Пастернак - Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов
- Название:Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентАСТc9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-097267-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Пастернак - Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов краткое содержание
Письма Марины Цветаевой и Бориса Пастернака – это настоящий роман о творчестве и любви двух современников, равных по силе таланта и поэтического голоса. Они познакомились в послереволюционной Москве, но по-настоящему открыли друг друга лишь в 1922 году, когда Цветаева была уже в эмиграции, и письма на протяжении многих лет заменяли им живое общение. Десятки их стихотворений и поэм появились во многом благодаря этому удивительному разговору, который помогал каждому из них преодолевать «лихолетие эпохи».
Собранные вместе, письма напоминают музыкальное произведение, мелодия и тональность которого меняется в зависимости от переживаний его исполнителей. Это песня на два голоса. Услышав ее однажды, уже невозможно забыть, как невозможно вновь и вновь не возвращаться к ней, в мир ее мыслей, эмоций и свидетельств о своем времени.
Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Письмо 165
<���ок. 7 октября 1928 г.>
Пастернак – Цветаевой
Дорогая Марина! Никогда так благодарно не удивлялся тебе, как на этих днях. На письмо хотел ответить телеграммой, и жаль, что этого не сделал. Если, что́ превзошло мои надежды, ты мне простила эти три необъясненные месяца, не ищи им пока еще объясненья. С твоей помощью я это сделаю, но не сегодня. Ничего так не хочу, как скорейшего твоего выздоровленья. Вскользь сообщенные планы предупреждают мои собственные. Тянусь к тому же, но держат незаконченные вещи в разноотдаленных от окончанья долях. Если найду путь и согласятся, хочу и могу прислать немного денег. – Но перерыв в переписке (такой вот – с тобой и абсолютный – с родными и друзьями) пока неизбежен. Не могу, не в силах и не вправе забегать вперед, почему он и к чему, но – в границах человеческой подверженности самообману – допущен в наилучших чаяньях, в счастливейшей, чем когда, преданности тебе и верности всему, чем я когда-либо кого мог привлечь и сделать другом. Книга? Передал ли ее А<���нтокольский>? О, разумеется. Без ее боя, без ее сгустков, без ее сосредоточенной силы, то, что наползло, осело, приурочилось и вздумало объявить себя гранью (для воли, выбора и полаганий) потребовало бы вероятно больше пристальности и напряженности с моей стороны, чем это случилось. Именно о ней не хочу сейчас говорить, и если уж это себе по отношенью к ней позволил, то уже ни с кем ни о чем. Изумительные стихи, более счастливые, чем мы с тобою. Если бы нас уже не было и нам больше ничего не оставалось, первый разговор был бы о ней. Или если бы у нас было право на долгий отдых, с путешествиями, с обеспеченною оглядкой. Ради Бога не думай, что я что-нибудь преувеличиваю или, умничая, паразитирую на какой-нибудь из былых «бездн». Без всяких потусторонностей: в нашем положеньи (исторически) нам надо еще пожить и поработать. Вдруг я зачувствовал это элементарно, здорово и сверхсловесно. Страшно этого хочу. Дай мне доубрать твою же собственную елку [153], хотя бы это длилось и целый год, ведь не в потемках же тебе ждать, а только жить своим и не думать. Буду писать тебе, а ты не отвечай. Поцелуй С.Я., а он пусть – Д<���митрия> П<���етровича> и П<���етра> П<���етровича>.
<���На полях:>
Как удивительно, что ты меня не прокляла! Я шел на этот Цветаевский исход, на этот удар с самонадеянностью, которой ты не должна оскорбляться: с надеждой на то, что это будет не окончательно. Что я что-то заслужу и все начнется вновь и еще лучше! То же, что ты написала мне, – лучше всего.
Письмо 166
3 января 1929 г.
Пастернак – Цветаевой
Дорогая Марина. Это далеко еще не то письмо, которое я тебе должен написать: приступить к последнему нет никакой возможности; всё – клубком у меня. Третий месяц я со дня на день собираюсь взяться за работу после тяжелого полугодового перерыва. Как и почему он получился, – это тоже длинная история. Но только за работой светлеет у меня голова, а потому и мысль об отчетном письме к тебе у меня все время была связана с этим, и сегодня еще не наступившим, сроком.
Между тем твои фантазии о М<���аяковском>, обо мне, о его роли в Москве и главное, о твоей судьбе волнуют меня не меньше твоего, а м.б. и больше. Все твои представленья на этот счет (кроме разве одного: о прирожденном обаяньи М. и его загроможденной противоречьями гениальности) – превратны. Мне это отсюда видней, и позволь мне, пока что, остаться голословным. Вспомни, что за эти годы я доверье твое заслужил, ну хотя бы как друг и информатор. Вспомни и верь мне, что огорчаться или быть недовольной собою у тебя основанья меньше, чем даже у того же М. Именно оттого я и называю этот совет свой голословным, что он исходит из объективных данных, которых в письме не охватить и не перечислить. Сделай же удовольствие мне и уверенно гони все сомненья и обиды взашей.
Я не знаю, предал ли М. инцидент с тобой огласке. Я с ним не встречаюсь и давно от его круга далек. Среди многих причин сделали невозможной нашу дружбу и те его бестактности в отношении тебя, о которых ты мне в разное время писала. Началось с рассказа о книжной лавке, комсомолке и Сельвинском, года 2 тому назад, если вспомнишь. И тогда его обычную хамоватость я стал чувствовать по-новому и свежее, чем м.б. нужно.
Но все это и эта моя сложность с М. – в порядке вещей.
Не знаю, поддержали ли рассказы М. эти городские толки, но все упорнее, с самой весны, ходят у нас слухи о твоем предполагающемся возвращеньи. Теперь, в беспорядке, несколько советов на эту тему. Отрывочно, от А<���нтокольского>, узнал о героизации наших дел, отличающей С<���ереж>у, и о том, как мало его мог удовлетворить в этом смысле А. Так вот, ближе к правде, конечно, С.Я., а не А., с той поправкой, что это правда не дареная, не стилизационно созерцательная, не романтическая, а – заданная, скупо растущая уступами крутых преодолений, антиромантическая, пушкинская, а не пушкинианствующая, т. е. такая, где личностно гениальное без остатка почти до анонимности переплавляется в трудовой массив произведений и влияний – и…, довольно – прости мне эти, все равно ничего не говорящие, прилагательные. Но я не знаю, вернусь ли еще когда к этой осведомительной характеристике (а здесь я обращаюсь столь же к его (С.Я.) сердцу, как и к твоему), и потому вкратце дополню. Мне кажется, нашему времени тут (а оно вместе и есть время века, время Европы) не столько даже враждебна прямая политическая враждебность, сколько, даже при дружестве, – придаванье какого бы то ни было значенья: потенции, обещанью, faculté virtuelle [154]. Традиция силовых зарядов и тех положений, при которых их лаконизм или прямое безмолвие были красноречивым языком, была прекращена войною. Она не только ведь разрушила Лувен – что обнаружить было не так трудно, – но я не знаю, сколько должно пройти времени для того, чтобы беременность Лувеном стала духовно говорить что-нибудь и что-нибудь означать, – так велико было уничтоженье этой… преемственности всходов. Ты вряд ли оценишь, как много значит сказанное и какую необозримую сферу неизбежных превращений эта перемена определяет. Скажу кратко: сейчас я верю только в дух, который, страдая и деформируясь, подымает на моих глазах матерьяльную тяжесть . Состоянье лебедки – вот нынешнее призванье творческого самородка. Взгляд, будто сейчас существует несколько вольно и естественно живущих миров, чуждающихся и враждующих, но порознь и в отдельности естественных и не чудны́х (старый и новый, правый и левый, такой-то и такой-то) – недалек и наивен. Он господствует и у нас и у вас. Он зиждется на отвлеченьи и на сказке, и в моем представленьи одинаковые романтики как Ходасевич, так и Маяковский и Горький. Каждым из них задача облегчена до узости родного круга. В другое время против этого нечего было бы возразить. <���Начало следующей фразы зачеркнуто.> Все это (и главным образом на этой строке уничтоженное продолженье) – лежит давно. Все это сухо, многословно, а главное, неизвестно к чему. Мне так и не удалось до сих пор попасть к тебе. Тебя осведомляли другие, непосредственно или издали, – в печати, как, скажем, иностранцы или тот же Горький. Мне здесь видны их нехватки и границы, и в самых экономных, отвлеченнейших чертах я их осведомленье хотел исправить. Это труднее, чем я думал. Все это еще когда-нибудь успеется. – Задолженность моя перед тобою растет со строки на строку. Я должен подробно написать тебе о «После России». Я должен досказать тебе то, о чем тут заговорил. О том сложном, трудном и провокационном, что тут в последнее время творится. О себе, может быть. Наконец я давно должен был исполнить твою просьбу о Перекопе. Уже больше месяца тому назад я с этой просьбой обратился к знакомому – знатоку по части книг, которому много обязан по этой и другим частям. Но пока им ничего не сделано. Сегодня послал тебе совершенный пустячок, скоро достану журнальную военную статью и м.б. достану книгу Слащева, изданную давно и которой нет больше в продаже. Тебе же советую достать книгу Г.Н.Раковского «Конец белых», изданную «Волей России» в 21 г. Кажется (библиографическое указанье), там есть матерьял. – И наконец то, с чего я не хотел начинать, чтобы не затруднить делового тона. Спасибо тебе за берет, за письма. С Новым Годом тебя и всех твоих. Крепко целую тебя и С.Я.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: