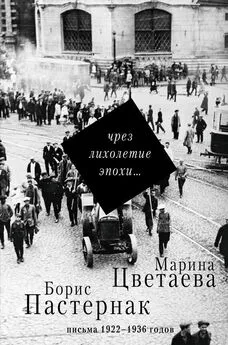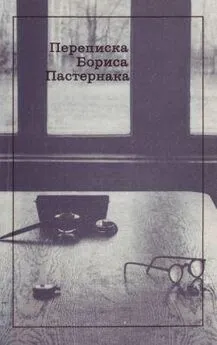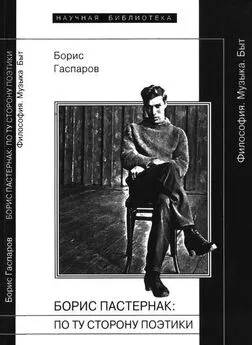Борис Пастернак - Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов
- Название:Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентАСТc9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-097267-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Пастернак - Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов краткое содержание
Письма Марины Цветаевой и Бориса Пастернака – это настоящий роман о творчестве и любви двух современников, равных по силе таланта и поэтического голоса. Они познакомились в послереволюционной Москве, но по-настоящему открыли друг друга лишь в 1922 году, когда Цветаева была уже в эмиграции, и письма на протяжении многих лет заменяли им живое общение. Десятки их стихотворений и поэм появились во многом благодаря этому удивительному разговору, который помогал каждому из них преодолевать «лихолетие эпохи».
Собранные вместе, письма напоминают музыкальное произведение, мелодия и тональность которого меняется в зависимости от переживаний его исполнителей. Это песня на два голоса. Услышав ее однажды, уже невозможно забыть, как невозможно вновь и вновь не возвращаться к ней, в мир ее мыслей, эмоций и свидетельств о своем времени.
Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И я тебя не спрашиваю, хочешь ли ты или нет, то есть допускаешь ли, потому что, порываясь по всему своему складу к свету и счастью, я бы и горе твоего отказа отожествил с тобой, то есть с хватающей за сердце единственностью, с которой мне никогда не разойтись.
Я ничего почти не говорил, и все стало известно Жене, главное же объем и неотменимость. И она стала нравственно расти на этом резком и горячем сквозняке, день за днем, до совершенной неузнаваемости. Какая ужасная боль это видеть и понимать, и любить ее в этом росте и страданьи, не умея растолковать ей, что изнутри кругом именованный тобой, я ее охватываю не с меньшей нежностью, чем сына, хотя и не знаю, где и как это распределяется и сбывается во временах. – Если удастся, я ее с мальчиком снаряжу на лето к сестре в Мюнхен. Если за лето успею, осенью поеду сам. Если нет, предстоит страшная, душевно бездонная зима, и потом, наконец, весна. Дольших сроков на свете не имеется, они недопустимы и невообразимы.
Что значила твоя последняя фраза в анкете: «Жизнь – вокзал; скоро уеду; куда – не скажу»? (У меня анкеты нет, привожу на память.) Я не обеспокоился, понял как провозглашенье бессмертия, т. е. ударенье на нем, на секрете и на вере, а не на буквальной скорости , как поняла Ася, залив меня безысходною тревогой (потому что это пониманье твоей сестры ). На этот вопрос не забудь ответить. Ах, как иногда глупо сболтнется! Ведь я не о том прошу. Но скажи, что я понял правильно, а если (чего вообразить не в силах) это не так, то умоляю тебя, переуверуй! На днях приходит письмо от сестры из Мюнхена. Заклинает и уверяет меня, что в этом году не умру. Письмо, по мимолетном недоуменьи, восстановило в моей памяти две-три недавних бессонницы, когда этот страх меня преследовал. Очевидно, я ей об этом проврался. Но письма припомнить не могу, и – не ответ ее, так и не знал бы о его существованьи. Но такая буря ежедневных примет! Все торжествует, забегает вперед, одаряет, присягает. Перечислить нет возможности. Вдруг я стал тут для всех хорош. Вспомнили – и посыпалось, со всех концов. Как ты по-особенному хороша, когда исключительно случайно проносишься в этом вихре участия. Напр<���имер>, то-то и то-то обо мне. И затем, вдруг (надо прибавить, что это говорит человек, даже не знающий, знакомы мы с тобой или нет) восхищенное сообщенье, что Версты (твои) ходят в списках по Москве. Или иногда непрямо, письмо о том, что со мной что-то, верно, происходит в последнее время, потому что корреспондент или корреспондентка часто видят меня во сне и пр. и пр. Точно ты завела или ко мне приставили тут специальных пифий. Я до бессмыслицы стал путать два слова: я и ты.
8 мая 1926 г.
Благодарю и верю. Как трудно писать! Сколько его накатывало и расходовалось в эту неделю. Ты указала берега. О, насколько я твой, Марина! Везде, везде.
Вот он, твой ответ. Странно, что он не фосфоресцирует ночью. Такой чудесности я не допускал. Я бродил вокруг да около того же. Я двадцать раз уезжал, и двадцать раз меня останавливал голос, который я ненавидел, пока он был моим. Ты и тут предупредила. И как! Знаешь ли ты, что, заговоря, ты всегда превосходишь представленье, даже внушенное обожаньем.
Одному человеку я на днях это выразил так. Мне пишет человек, которого я люблю до самозабвенья. Но это такой большой человек и это так широко свидетельствуется в письмах, что иногда становится больно скрывать их от других. Эта боль и называется счастьем.
Ты всего не знаешь. Ты усадила меня за работу. Но как благодарить тебя за то, что, облегчая мне этим разлуку, ты третий месяц уподобляешь часть людей и обстоятельств себе. Я говорю о тебе, как о начале. Как это объяснить? Обращаются как с драгоценностью. Как с вещью, заряженной золотом, любовно и осторожно. И так как я заряжен тобой, я люблю их всех за это обращенье. За чутье, за подчиненье тому, чем я дымлюсь, очевидно.
Я напишу тебе, как только будет готов Шмидт. Только так я могу заставить себя взяться за работу. Это будет недели через три. Я много чего расскажу тебе тогда. Ты ведь все-таки живешь тут и во всей осязательности отдельных происшествий со мной. – Но об этом сегодня ни слова. Когда я буду писать тебе, буду один.
Твой ответ чудный, редкостный. Если мои слова о грохоте (невозможно далеком, божественно-благородном) законности кажутся <���второе слово подчеркнуто дважды> тебе расходящимися с твоими последними словами о замужестве, ты их вымарай, чтобы их больше не видать. На самом деле я в них выражаю то самое, что составляет суть и дыханье твоего письма.
Летом, осенью и зимой будут случаи и полосы, когда нам будет казаться, что мы пошли наперекор весне, поперек нее. Я тебе желаю счастья в эти дни, тебе и себе.
Прилагаю к этому письму недоконченное, начатое в ожиданье твоего ответа. Ни на него, ни на это последнее, в котором я выражаю песку St. Gilles-ского пляжа свою робость и покорность и все то, что требуется, чтобы задобрить воздух – не отвечай. Давай молчать и жить и расти. Не обгоняй меня, я так отстал. Семь лет я был нравственно трупом. Но я нагоню тебя, ты увидишь. Про страшный твой дар не могу думать. Догадаюсь когда-нибудь, случится инстинктивно. Открытый же и ясный твой дар захватывает тем, что, становясь долгом , возвышает человека. Он навязывает свободу , как призванье, как край, где тебя можно встретить. Лето 1917 г. было летом свободы. Я говорю о поэзии времени и о своей. В «Шмидте» одна очень взволнованная, очень моя часть просветляется и утомленно падает такими строчками:
О государства истукан,
Свободы вечное преддверье!
Из клеток крадутся века,
По Колизею бродят звери,
И вечно тянется рука
В столетий изморось сырую,
Гиену верой дрессируя,
И вечно делается шаг
От римских цирков к римской церкви,
И мы живем по той же мерке,
Мы, люди катакомб и шахт.
До этого стихи с движеньем и даже м.б. неплохие. Эти же привожу ради мысли. Тут в теме твое влиянье (жид, выкрест и пр. из Поэмы Конца). Но ты это взяла как символ и вековечно, трагически, я же в точности как постоянный переход, почти орнаментальный канон истории : арена переходит в первые ряды амфитеатра, каторга – в правительство, или еще лучше: можно подумать, при взгляде на историю, что идеализм существует больше всего для того, чтобы его отрицали.
Прости за щепетильную и мелочную просьбу и не удивляйся неожиданной деловитости. Не все понимают, что в «Потемкине» сл<���ова> «За обедом к котлу не садились и кушали молча хлеб да воду…» – не случайная описка, а сказано так умышленно. Именно это кушать – солдатское, то есть, вернее, казарменное выраженье, а не всякие там хлебать или шамать и прочие глаголы, употребительные на воле и дома. Кроме того, это выраженье почерпнуто из матерьялов. Вот я и хочу тебя спросить. Не сопроводить ли некоторых выражений вроде: скатывать палубу, буксирный кнехт и пр. объяснительными сносками и не дать ли в их ряду и сноску к слову « кушали »? Если ты с этим согласна, то под звездочкой я бы тогда дал просто документальную выдержку: «Борщ кушать было невозможно, вследствие чего команда осталась без приварочного обеда и кушала только хлеб с водою ». Из дела № 3769–1905 г. Д<���епартамента> Полиции 7-го делопроизводства «О бунте матросов на броненосце “Князь Потемкин Таврический”». Показанье матроса Кузьмы Перелыгина. – Разумеется, в оригинале по старому правописанью.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: