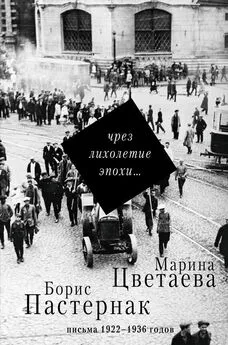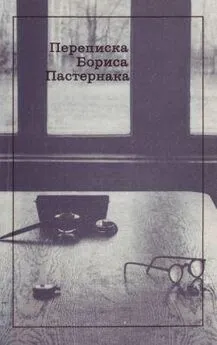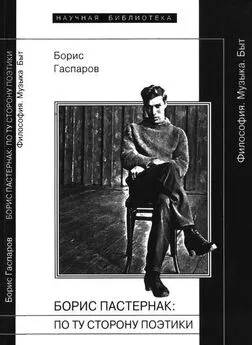Борис Пастернак - Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов
- Название:Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентАСТc9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-097267-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Пастернак - Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов краткое содержание
Письма Марины Цветаевой и Бориса Пастернака – это настоящий роман о творчестве и любви двух современников, равных по силе таланта и поэтического голоса. Они познакомились в послереволюционной Москве, но по-настоящему открыли друг друга лишь в 1922 году, когда Цветаева была уже в эмиграции, и письма на протяжении многих лет заменяли им живое общение. Десятки их стихотворений и поэм появились во многом благодаря этому удивительному разговору, который помогал каждому из них преодолевать «лихолетие эпохи».
Собранные вместе, письма напоминают музыкальное произведение, мелодия и тональность которого меняется в зависимости от переживаний его исполнителей. Это песня на два голоса. Услышав ее однажды, уже невозможно забыть, как невозможно вновь и вновь не возвращаться к ней, в мир ее мыслей, эмоций и свидетельств о своем времени.
Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Очень хочется все поскорее устроить с семьей, остаться одному и опять приняться за работу. Разгон, верно, упущен, но что делать. Боюсь лета в городе – духоты, пыли, бессонницы, накатов чужого, но заразительного скотства; идеи ада (бесформенного страданья). Если же воспользоваться одним из сотни приглашений, боюсь захлебнуться благодатностью новых впечатлений, освеженья, которое скажется никак не сейчас, а обязательно через годы. Боюсь влюбиться, боюсь свободы. Сейчас мне нельзя. То, что в руках у меня, не так держу, чтобы отложить в сторону. За год ухвачусь ловчее, т. е. – метафоры неуместны – прикован пока к данному подоконнику и к верстаку чудовищностью расходов и невыравнявшимся заработком. Весной был выпад категоризма. Я рванулся было вон из круга вынужденного приниженья Жени, тебя, себя самого и (какой глупый порядок) всего мира. Удручает кажущийся возврат к сеянью обид и обиженности. Я говорю о нравственной неуловимости, которою пересыпан обиход в том случае, когда единственное чистое и безусловное его место составляет работа .
Тебе кажется, что это пусть горько, но нормально. Мне нет.
7 июня 1926 г.
Совпаденья словаря и манеры таковы, что предположенное все-таки вышлю, чтобы не казалось, что Шмидта и Барьеры написал под влияньем Крысолова. О Барьерах. Не приходи в унынье. Со страницы, примерно, 58-й станут попадаться вещи поотраднее. Всего хуже середина книги. Начало: серость, север, город, проза, предчувствуемые предпосылки революции (глухо бунтующее предназначенье, взрывающееся каждым движеньем труда, бессознательно мятежничающее в работе, как в пантомиме) – начало, говорю я, еще м.б. терпимо. Непозволительное обращенье со словом. Потребуется перемещенье ударенья ради рифмы – пожалуйста: к услугам этой вольности областные отклоненья или приближенье иностранных слов к первоисточникам. Смешенье стилей. Фиакры вместо извозчиков и малорусские жмени, оттого что Надя Синякова, кот<���орой> это посвящено, – из Харькова и так говорит. Куча всякого сору. Страшная техническая беспомощность при внутреннем напряжении, м.б. бо́льшем, чем в следующих книгах. Есть много людей, ошибочно считающих эту книжку моею лучшею. Это дичь и ересь, отчасти того же порядка, что и ошибки твоей творческой философии , проскользнувшие в последних письмах. Прости за смелость, – я это кругом обошел и знаю.
<���На полях:>
Опечаток больше, чем стихов, потому что жил тогда (в 16 г.) на Урале. Постарался Бобров. Типический грех горячо преданного человека. Т. е. правил и выпускал он.
О Шмидте два слова. Нетерпеж послать ( только послать , на почту снесть). Между 7 йи 8 йцифрой пропуск. Будет письмо к сестре ( совсем другой человек пишет, нежели авт<���ор> писем к «предмету»). Очень важная вставка. Почти готово, – но дошлю со 2-ой частью, где только и начинается драма. (Превращенье человека в героя в деле, в кот<���орое> он не верит, надлом и гибель.) Будь ангелом, сделай милость, не пиши о вещах, пока я подробно в Крысолове не отчитаюсь. Будь другом, все равно, понравится ли, нет ли, пока молчи. Зачем остальная дребедень, объяснил уже раньше.
Ася называет его Сережей, и я подружился с этим именем. Все им очарованы, кто знает, и говорят одно хорошее. Мне кажется, что я его за что-то люблю, п.ч. мне как-то от него больно. Нет, просто люблю его и по-мужски, чудесно, уважаю .
Мне позвонили из «Комсомольской правды» (неслыханный случай) с просьбой разрешить напечатать «Мне 14 лет» (выбор, для комсомола!). Когда напечатают, будет возможность, если захочешь, со ссылкой на № комсомола в Верстах! Ты меня ненавидишь, я это чувствую.
Письмо 59
6 июня 1926 г.
Цветаева – Пастернаку
<���О поэме «Попытка комнаты»:>
Я хотела дать любовь в пустоте: всё в ничто . Чувств<���ую>, что любовь не получ<���илась>, п.ч. есть вещи больше. Они – получились. Кроме того, у меня к тебе (с тобой) странная робость, скудость. Не затрагиваю. Точнее: не дотрагиваюсь. Ты ТО, что я люблю, не ТОТ, кого люблю.
Письмо 60
<���нач. июня 1926 г.>
Цветаева – Пастернаку
<���Среди поправок к поэме «Попытка комнаты»:>
Борис, как я бы хотела тебе показать свои чернов<���ики>. Тебе – тебе – тебе одному, никому больше. Тебе, не соглядатаю, а содеятелю, сопреступнику. Для одного 4-стишия столько столбцов и смыслов. <���Над строкой: для одной рифмы сколько> Это крайняя заумная изощряемость мысли, изощряемость, доводящая нас до тупика и бросающая на постель. Ум за разум!
Письмо 61
10 июня 1926 г.
Пастернак – Цветаевой
Тех писем не нагнать и не задержать в дороге. Впрочем, завтра попробую послать воздушной. – Ничего в них нет страшного или дурного. Но ими говорит то угнетенье, в котором я находился, пока не увидал второго письма Рильке к тебе. Теперь я люблю всё (тебя, его и свою любовь) так же бесконечно, как, в последний раз, 18-го мая (день твоей молчаливой пересылки). Знаешь, что меня тяготило последнее время? В твоих словах о нем мне стали мерещиться границы – тезисы об одиночестве и творчестве, вещи известные мне, как и тебе, не меньше; но, как это бывает со всем краеугольным, когда я его признаю и с ним соприкасаюсь, известные мне небрежнее, мимоходнее, обязательно в какой-нибудь частности, известные мне легче и живее, чем в твоей бесспорной формулировке. Ты же выражала их почти как ложь. Я боялся, что ты любишь его недостаточно. Мне трудно все это рассказать тебе с начала, с того предвосхищенья, которым была внушена вся весна, и поездка к тебе, и письмо к нему, и чутье всего, что должно было последовать: потянуть, полететь на нас из будущего. Я прекрасно понял (и это есть у меня в неотосланном письме) породистость и душевный такт твоей сдержанности при пересылке. Но именно то, что этому прирожденному движенью было оказано предпочтенье перед случайностью промаха ( не промолчать, оказаться не золотой, а неизвестного состава), меня и огорчило. Уже этот конверт бесконечность затуманивал, если не упразднял. Моей, предвидевшейся мне (бесконечности) на наш счет, я в красоте твоей сдержанности не узнал. Марина, тебе не придется негодовать и удивляться: я сам дальше все это объясню, дай только договорить мне, это я не обвиняю, а оправдываюсь. И все, что ты потом ни писала, увеличивало несходство. Теперь все ясно. Я позволял своему чувству жить допущеньем, что мы светопрозрачны друг для друга, т. е. что мое письмо к нему прошло через тебя и что мои домыслы о вашем знакомстве равносильны невиденным фактам. Твои же слова о нем, т. е. та сторона их, которая была производной и шла в ответ на мою путаницу <���подчеркнуто дважды> и беспокойство, не только не успокаивали, а их усугубляли. Я сказал уже. Двумя химерами отдавали эти ответы ( моя вина). Мне представилось, что у тебя есть границы, которые я могу увидеть (представляешь точность горя!). Я пришел к мысли, что ты его не любишь, как надо и можно, как я (представляешь и это!!). А ты еще подливала масла в огонь: Гончаров, Marine и пр. Теперь эти химеры рассеяны, не тобою, п.ч. даже в твоем последнем письме (лавр оценен и съеден) – ты продолжаешь бить меня по тому же больному месту: тычешь границами (выдуманными) его якобы и своего чувства к нему, а вместе с тем, в этой части и неизбежно, при всей моей reconnaissance [46]к тебе («Благонамеренный», Цветаева), – и призраком своих собственных.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: