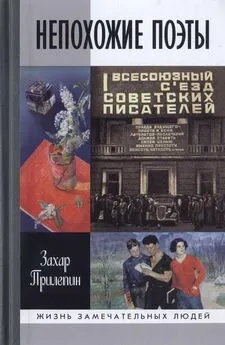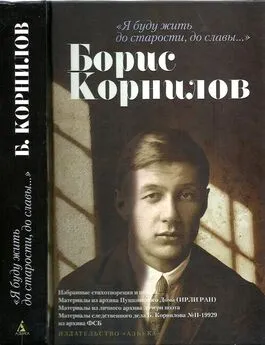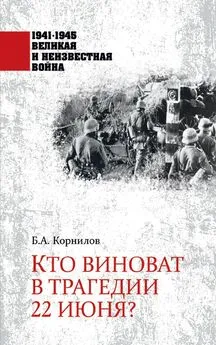Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской
- Название:Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03859-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской краткое содержание
Трех героев этой книги, казалось бы, объединяет только одно: в своё время они были известными советскими поэтами. Всё остальное — происхождение, творческая манера, судьба — разное. Анатолий Мариенгоф (1897–1962) после короткого взлёта отошёл от поэзии, оставшись в истории литературы прежде всего как друг Есенина и автор мемуарной прозы. Борис Корнилов (1907–1938) был вырван из литературной жизни и погиб в годы репрессий. Владимир Луговской (1901–1957) после громкой и заслуженной славы пережил тяжёлый творческий и человеческий кризис, который смог преодолеть лишь на закате жизни. Вместе с тем автор книги, известный писатель Захар Прилепин, находит в биографиях столь непохожих поэтов главное, что их связывает: все они были свидетелями великих и трагических событий русской истории XX века — не прятались, не отворачивались от них и сумели отразить их в своём творчестве. Мыслящий читатель, несомненно, отметит, как современно и даже злободневно звучат иные стихи этих поэтов в наше время.
знак информационной продукции 16 +
Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сильные люди — всегда снисходительнее. Слухи распускают — слабые.
Впрочем, есть у Луговского один ученик, который в 1938 году называл его своим «крёстным отцом», — Константин Симонов.
Бесстрашный военкор, кочующий с одного участка фронта на другой, демонстрирующий паранормальную храбрость и выдержку, он оказывается в Ташкенте.
СИМОНОВ И ЛОПАТИН
В повести Константина Симонова «Двадцать дней без войны» (ставшей частью романа «Так называемая личная жизнь») описан Луговской. Или человек, похожий на Луговского до степени полного смешения.
В действительности, кажется, всё было острее, чем в романе, начатом за год до смерти Луговского — в 1956-м, а законченном в 1978 году.
Согласно сюжету «Двадцати дней без войны», Луговской встречает военкора Лопатина уже на вокзале. На самом деле Симонов сначала отказался встречаться с Луговским. Тот напился пьян и пошёл к Ахматовой жаловаться ей на своего любимого ученика.
Но главный герой симоновского сочинения, строго говоря, не сам Симонов, о чём автор уведомляет в предисловии к своей книге.
Симонов как бы прячется за Лопатина, сделав его старше и старательно описав его непохожим на себя — более добрым, более грузным и, главное, куда менее амбициозным.
В первой части этого, состоящего из трёх повестей, романа есть забавный момент, когда Лопатин ревнует жену-актрису к молодому и очень успешному драматургу, чья фамилия не называется. Он красивый, с усиками, — сетует Лопатин, — нечего тебе с ним встречаться, влюбишься ещё.
Вот этот, с усиками, которого женщинам лучше избегать, и есть молодой Симонов, над которым стареющий Симонов немного иронизирует, но вместе с тем и слегка любуется им.
Однако Лопатину он передоверяет и свои маршруты поездок по фронтам, и свои любовные переживания — Симонов, к слову, сам был женат на актрисе, — и свои мысли, и всё-таки состоявшуюся встречу с Луговским тоже.
«Всё было неузнаваемо в этом человеке, — таким видит герой повести Симонова своего бывшего друга, эвакуированного в Ташкент поэта по имени Вячеслав. — И голос, в котором вместо прежних медных труб осталось одно рыдание, и неправдоподобно худая фигура, и постаревшее лицо, которым он сейчас, как слепой, тыкался в лицо Лопатину».
Руки у поэта — тоже «не прежние, неуверенно подрагивающие». И, спустя страницу, опять: «исхудалые, подрагивающие».
Порой поэт Вячеслав старается говорить с вызовом, но и «в вызове этом было что-то неуверенное, похожее на просьбу о прощении, хотя Лопатину нечего было ему прощать».
Лопатин «помнил другое: как, попав тогда в Среднюю Азию, чёрной завистью завидовал» этому поэту, который «во время боёв с басмачами целую неделю находился при штабе Кавдивизии у знакомого ему и воспетого им потом в стихах комдива».
«Что же такое случилось с ним? Как это могло случиться именно с ним?» — думает Лопатин. Вернее: Симонов.
Слово «именно» — ключевое. Подобное происходило тогда сплошь и рядом, десятки поэтов ушли на войну, а несчитаное число других попряталось кто где до самого конца Отечественной. С них никто ничего не спросил. Но как такое могло произойти с Луговским, который полтора десятилетия служил образцом мужества и силы?
Дома поэт «бросил на тахту знакомое Лопатину довоенное заграничное демисезонное пальто, теперь сидевшее на нём как на вешалке».
«И в этой нынешней комнате, на вытертом паласе, словно память о прошлом, висела шашка. Одна, но всё-таки висела».
Здесь Симонов присочиняет — шашки никакой не было в доме Луговских. Но как деталь — эта шашка ужасно убедительна. От этой шашки на стене становится одновременно и жальче, и горше.
И вот первый авторский вывод, который Симонов сделал не тогда, когда приезжал в Ташкент, а много позже, когда писал книгу: Луговской «не был похож на человека, струсившего на войне, но счастливого тем, что он спасся от неё. Он был не просто несчастен, он был болен своим несчастием. И те издёвки над ним, которые слышал Лопатин в Москве, при всём своём внешнем правдоподобии были несправедливы. Предполагали, что спасшись от войны, он сделал именно то, что хотел. А он, спасшись от войны, сделал то, чего не хотел делать. И в этом состояло его несчастье».
«Решимость отчаяния… <���…> ставила в глазах Лопатина этого оказавшегося перед лицом войны такого слабого человека намного выше людей, которые вели себя низко, но при этом жили так, словно с ними ничего не случалось и, легко согласившись, чтобы вместо них рисковал жизнью кто-то другой, сами продолжали существовать, сохраняя вид собственного достоинства».
Но этот вывод, увы, не последний — и как воин, и как поэт, Симонов обязан идти до конца.
Потому что правда Владимира Луговского была в конечном итоге «только его правдой, а не вообще правдой. Вообще-то, перед лицом войны он хотя и мучился этим, всё-таки жил неправедной жизнью. И это тоже была правда. И более важная».
…И ни одно слово здесь не оспоришь, и ничего не попишешь, кроме того, что после войны, когда Симонов попал в опалу, его самого сослали в Ташкент.
Ирония человеческих судеб.
ТВЕРДЫНЯ, ДЫНЯ
Симонов написал правду — но важно то, что говорить эту правду имеет право только Симонов или равные ему — каковых не так много.
Иногда кажется, что в случившемся с Владимиром Луговским есть что-то христианское: он словно один принял на себя чью-то трусость, чьё-то бегство, чью-то подлость, чей-то невскрытый позор.
Ни одно серьёзное упоминание его имени не обходится без ташкентской истории, и в этом уже есть что-то, право слово, патологическое.
Самая серьёзная работа, посвящённая ему, — «Владимир Луговской. Книга о поэте» Льва Левина, вышедшая в 1972 году, — и та, за невозможностью говорить в те годы про ташкентские события Великой Отечественной, содержит кислые сетования: вот-де Луговской толком не воевал в Гражданскую, нет у него военного опыта Фурманова и Фадеева… Попробовал бы Лев Левин написать то же самое о Маяковском — сразу позабыл бы дорогу во все советские издательства.
Есенин, как и всё его революционное поэтическое окружение, тоже миновал Гражданскую, а с Первой мировой вообще дезертировал — у кого-то хватит ума про это всерьёз говорить?
Даже Евгений Евтушенко, и тот отметился в стихах (справедливости ради уточним — комплиментарных) о Луговском: «Он, казавшийся твердыней, / вдруг рассыпался в момент, / вместо фронта выбрав дыни, / пловом пахнущий Ташкент…»
Дыни-твердыни, чёрт.
И где там пахло пловом? — там два года недоедали все.
«Шестидесятники», вестимо, всегда выбирали фронт, а не Ташкент. Или не выбирали? Или не было возможности? Ну так и не надо высказываться на эту тему.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: