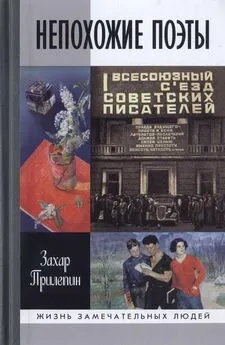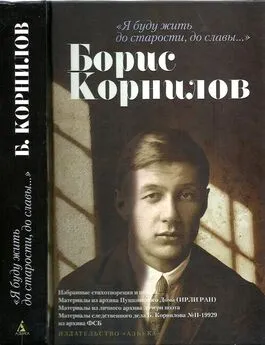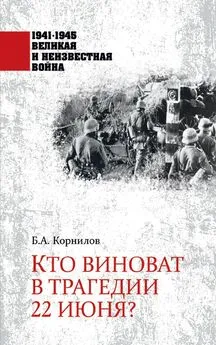Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской
- Название:Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03859-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской краткое содержание
Трех героев этой книги, казалось бы, объединяет только одно: в своё время они были известными советскими поэтами. Всё остальное — происхождение, творческая манера, судьба — разное. Анатолий Мариенгоф (1897–1962) после короткого взлёта отошёл от поэзии, оставшись в истории литературы прежде всего как друг Есенина и автор мемуарной прозы. Борис Корнилов (1907–1938) был вырван из литературной жизни и погиб в годы репрессий. Владимир Луговской (1901–1957) после громкой и заслуженной славы пережил тяжёлый творческий и человеческий кризис, который смог преодолеть лишь на закате жизни. Вместе с тем автор книги, известный писатель Захар Прилепин, находит в биографиях столь непохожих поэтов главное, что их связывает: все они были свидетелями великих и трагических событий русской истории XX века — не прятались, не отворачивались от них и сумели отразить их в своём творчестве. Мыслящий читатель, несомненно, отметит, как современно и даже злободневно звучат иные стихи этих поэтов в наше время.
знак информационной продукции 16 +
Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Корнилов если и был возбуждён, то по-хорошему. Вида не подал.
Даже сфотографировался с Безыменским — в компании с ленинградскими поэтами Саяновым и Прокофьевым. Дело житейское, все свои, товарищеская критика, то-сё (а мысленно: мели, Саша, мели, Безыменский, нос я тебе всё равно наставил).
На радостях Корнилов купил себе патефон. Власть специально для литераторов открыла магазин № 118, куда завезли фондовые товары: хлопчатобумажные и шёлковые ткани, 50 велосипедов, 200 карманных часов и в числе прочего 8 тысяч грампластинок и 400 патефонов — один из которых как раз Корнилову и достался.
Не дожидаясь окончания съезда — о нём уже все слова сказаны, — в последнюю неделю августа Корнилов и его Люся отправляются в Нижний Новгород. Но если в предыдущие заезды он появлялся как молодой сочинитель, не пропавший в Ленинграде за год, и за два, и закрепившийся там, — то теперь Корнилов — победитель, всероссийская величина, может смотреть вокруг с ласковым и снисходительным достоинством.
И Люся рядом — нисколько не хуже прежней, от которой, напомним, нижегородские товарищи были в восторге.
Патефон Боря с собой взял: от музыки у него на сердце теплело — включал в любую свободную минуту. А в Семёнове эту музыкальную штуку можно родителям оставить, пусть порадуются.
Пять нижегородских сочинителей (Константин Поздняев, Михаил Шестериков, Борис Пильник, Нил Бирюков, Фёдор Жиженков), стесняясь и перетаптываясь, явились к Боре и Люсе в гостиницу «Россия».
«Никакого застолья супруги не приготовили (да мы и не ждали его: не те времена были, чтобы застолье на семь человек устраивать), — рассказывал Поздняев. — Вместо этого попросту началась непринуждённая беседа, перемежавшаяся чтением стихов. И первое, что Корнилов прочитал нам тогда, была “Соловьиха”.
<���…> Стоял он к нам вполоборота и смотрел куда-то в сторону, словно хотел этим показать, что и его лирический герой, обращаясь к Серафиме, не смотрит ей в глаза: так ему трудно с ней объясниться, таким волнением он охвачен…»
Характерный момент: на столе в номере стояла фотография Корнилова — он её с собой возил, ну, или Люся, — и выставляли для красоты. Поэты, да и не только поэты, в те времена относились к своим изображениям пристрастно — фотографии часто дарили с дарственными надписями, не считая это дурным тоном, — но ставить в гостиничном номере на стол, это… показательно.
«…когда все стали расходиться… Корнилов попросил нас зайти с ним к администратору гостиницы, чтобы “урегулировать одно непредвиденное обстоятельство”, и мы зашли и выяснили, почему надо “освободить номер завтра к восьми утра” (в город из районов съезжались на какое-то соревнование физкультурники)…»
Корочки «Известия ЦИК СССР» — не подействовали!
В коридоре Корнилов удивлялся:
— Видели, как я зажимал «Известия» и нажимал на ЦИК?! Даже это не помогло!
Год, казалось бы, должен был завершиться более чем обнадёживающе.
Редактор журнала «Литературный критик» Елена Усиевич — между прочим, революционерка со стажем, член ВКП(б) с 1915 года, вернувшаяся в Россию вместе с Лениным, участница Гражданской войны, — тоже говорила тогда о Корнилове как об одном из трёх главных поэтов Союза призыва 1930-х.
И разве только она. Борис Пастернак признавал: «Павел Васильев и Борис Корнилов — наиболее своеобычные и интересные поэты-современники».
Корнилов пишет поэму «Моя Африка». Один знакомый художник рассказал ему, как на фронте против Белой гвардии сражались семь сенегальцев — чёрные, как дёготь. Корнилов удивлён: вот эт-то да. Так появился сюжет о таинственном чернокожем красноармейце, однажды встреченном на улицах революционного Петрограда.
«Моя Африка» — лучшая поэма Корнилова — и, работая над ней, он сам понимает, насколько силён, раскрыт, свободен его голос.
Одновременно, осознавая своё новое положение, Корнилов писал в «Литературном Ленинграде» (3 сентября 1934 года):
«Предположим, что человек влюбился. Ему, как вода, нужно лирическое стихотворение, которое сказало бы, что вот он влюблён, ему весело, он хочет жить, у нас прекрасное будущее, сияет солнце.
Найдёт он у нас такое стихотворение?
Нет, пожалуй, не найдёт. Он найдёт у нас вымученные рифмы, жуткие сентенции о необходимости любить и строить. Когда мы пишем такие стихи, мы забываем, что кто-то хочет им верить, что для кого-то они не только рифмованы через одну строчку, а кусок жизни, воспетый сердцем. Я прощу себе любую плохую рифму, любое плохое сравнение, но не прощу себе бесстрастия, бескровности…»
Конечно, Корнилов лукавил, говоря «не найдёт», — он отлично понимал, что если и найдёт — то у него, и доказывал, что право на лирику — за ним, и это право не отнять, раз «Соловьиха» публикуется в «Известиях» и её во всеуслышание читает Бухарин на главном литературном мероприятии страны.
Корнилов представлял свою «Соловьиху» в Ленинграде у Мейерхольда за общим столом — где сидели артисты, музыканты, поэты. Всеволод Эмильевич от Корнилова был в полном восторге и просил у него пьесу.
Подумав, Корнилов вспоминает ту давнюю историю про убитых и растерзанных под Семёновом комсомольцев — может, об этом написать? Мейерхольд «за», они собираются вместе ехать в Семёнов.
«Пьесу в первом её варианте я сдам театру в начале 1935 года», — обещает Корнилов в прессе.
«Можно подумать, что я разбрасываюсь, работая в разных жанрах поэзии, — говорит он. — За последнее время у нас как-то установились характеристики тех или иных поэтов. Например, Прокофьев — это лирик, Сельвинский — поэт-драматург, Безыменский — пишет большие по размеру произведения — значит, эпик. И каждый пашет свою полоску. По-моему, это неправильно… Нужно дерзать лирику написать поэму так же хорошо, как он пишет лирическое стихотворение. И даже больше — я уверен, что когда-нибудь напишу прозу».
Тут замах, конечно же, не на коллег, замкнутых в своих жанрах, — а на Пушкина. Хотя и Есенин умел многое. А если они могли — отчего же не смочь ему.
Жена Мейерхольда, Зинаида Райх, просит Бориса, чтоб он посвятил «Соловьиху» ей, и Борис, конечно, соглашается — по крайней мере вслух: да, говорит, да, конечно.
Так протягиваются сразу несколько нитей от Есенина. Сначала Мейерхольд, который в своё время хотел ставить есенинского «Пугачёва» (и ещё «Заговор дураков» есенинского друга и соратника Мариенгофа, который последние годы тоже живёт в Ленинграде), предлагает Корнилову совместную работу. А потом ещё и жена Есенина воспринимает Корнилова как большого поэта и сердечно относится к нему.
В сентябре Райх дарит Корнилову большую красивую тетрадь — чтоб было куда записывать сочинённое. Борис всюду возит с собой эту тетрадку — и всю её заполнит новыми стихами.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: