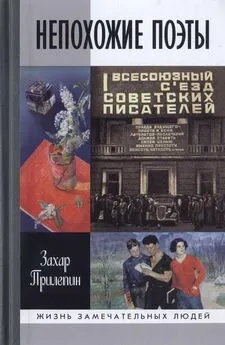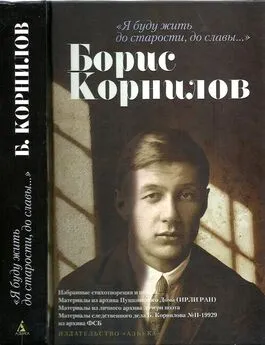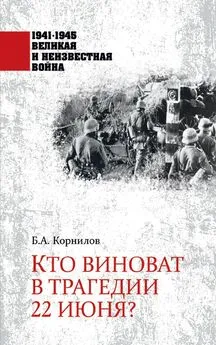Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской
- Название:Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03859-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской краткое содержание
Трех героев этой книги, казалось бы, объединяет только одно: в своё время они были известными советскими поэтами. Всё остальное — происхождение, творческая манера, судьба — разное. Анатолий Мариенгоф (1897–1962) после короткого взлёта отошёл от поэзии, оставшись в истории литературы прежде всего как друг Есенина и автор мемуарной прозы. Борис Корнилов (1907–1938) был вырван из литературной жизни и погиб в годы репрессий. Владимир Луговской (1901–1957) после громкой и заслуженной славы пережил тяжёлый творческий и человеческий кризис, который смог преодолеть лишь на закате жизни. Вместе с тем автор книги, известный писатель Захар Прилепин, находит в биографиях столь непохожих поэтов главное, что их связывает: все они были свидетелями великих и трагических событий русской истории XX века — не прятались, не отворачивались от них и сумели отразить их в своём творчестве. Мыслящий читатель, несомненно, отметит, как современно и даже злободневно звучат иные стихи этих поэтов в наше время.
знак информационной продукции 16 +
Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«И жили мы в дешёвеньком отеле / С огромным телефонным аппаратом… / Там церковка была, и ресторанчик, /И лавочки, где продавали вяло / Парижские открытки и бювары, / А наверху, как слон, стоял Монблан» — это поэма «Белькомб», Луговской опишет всё это спустя восемь лет.
Они там едва не погибли — мимо них, совсем рядом, прошла лавина, в таких случаях говорят: успели попрощаться с жизнью.
«Спасённые от ярости стихий, / Мы, обнявшись с тобой, стояли молча. / Дорога срезана была как бритвой, / За два шага от нас чернел провал. / Случайность пожалела нас с тобою».
В Париже Этьенетта будет провожать его в ночь с вокзала «Gare du Nord». Подарит платок русскому поэту на память. Мы ещё вспомним об этом платке.
Луговской рассказывает своей Сузи в следующем письме: «Пишу в настроении очень плохом, каком-то светло-сером, как парижский дождь. В это настроение вкраплены и огоньки, и фальшивый свет реклам, но на душе усталость, в голове обрывки мыслей, в крови — одиночество».
Если коротко: пожалей меня, Сузи.
Далее самое главное: «Будь я проклят, но когда, в какой день моей жизни стал я серым, зимним волком — не знаю».
Жизнь — она вся такая мелодрама, туши свет, там такие банальные рифмы.
Луговской ведь ещё и в расстроенных (или в раздвоенных?) чувствах тогда же напишет Сузи стихи — удивительные и красивые: «О, только бы слышать твой голос! / В ночном телефоне — Москва, / Метель, новогодняя встреча, / пушинка весёлого снега…/ В гудящей мембране / едва различимы слова, / Они задохнулись / от тысячемильного бега…»
…В январе 1936 года три советских поэта будут выступать в Лондоне, всё так же успешно, разве что со скидкой на то, что английская публика традиционно более сдержанна, чем французская.
Среди других Луговской стоит в толпе, собравшейся под окнами дома, в котором умирал великий британский писатель Редьярд Киплинг, один из кумиров его так и не завершившегося детства.
«Советский Киплинг» станут называть самого Луговского в оставшиеся до войны годы.
Потом уже нет.
После войны так будут называть Константина Симонова, и Луговской отдаст своему ученику титул без боя.
Этьенетту он больше не увидит. Её расстреляют немцы спустя восемь лет — как большевичку и партизанку.
Всё это — готовое, сначала удивительно весёлое, потом ужасно грустное кино: четыре младых поэта и Волк среди них, овации, фотовспышки, первые страницы газет, весёлое пьянство, бычьи яйца, авария, французский госпиталь с клошарами, молодой Хэм в парижском кафе, прекрасная и ласковая переводчица, дома жена-пианистка, «о, только б услышать твой голос», снежная лавина, умирающий Киплинг, сколько всего, боги мои, боги.
ДЯДЯ ВОЛОДЯ
Внешне со временем он стал похож на деда по материнской линии. Представишь Луговского с бородой — сразу видится красивый, с ласковыми глазами батюшка.
Если проводить конкурс красоты среди поэтов того века, то Луговской — наряду с Блоком, Есениным, Маяковским и Павлом Васильевым — в числе самых ярких, в первой «пятёрке». Никто не знает, в скольких девичьих комнатах висел его портрет в тридцатые годы — во многих.
Он непрестанно и спокойно пользовался своей статью.
Тихонов вспоминал: в Таджикистане было дело, у Луговского ещё первый брак, город Чарджоу, они идут по улице, вдруг слышат звуки музыки. Тихонов: что это?
Луговской сразу узнаёт: Шуман, «На чужбине».
Следом другая мелодия. А это? Луговской: «Шуберт. Знаешь, Коля, пойду. Уверен, это играет молодая прекрасная девушка!»
Так оно и оказалось. Домой Луговской вернулся очень поздно, весёлый.
На другой день познакомил Тихонова с действительно очаровательной подругой. «Инесса де Кастро!» — представил её, а товарища: «Жюльверн-старший, он же поэт Тихонов».
Инессу на самом деле звали Аграфена Грушко (или как-то наподобие). Она была циркачкой, и в тот же день жюльверны оказались на её выступлении в шапито.
Дочка Луговского, Мила Голубкина, вспоминает другую историю. Однажды отец подарил ей игрушечного медведя, сопроводив подарок чтением стихотворения. Она долго думала, что стихи посвящены именно ей. Потом узнала, что такого же медведя Луговской подарил Мухе, первой дочери. Муха, естественно, думала, что и стихи про медведя для неё. Много позже выяснилось, что сначала у папы был роман с замужней женщиной в Ялте — и самый первый медведь был подарен именно её дочери. Вместе со стихами. «Это так похоже на папу», — сокрушённо, но уже без обиды скажет дочь годы и годы спустя.
Поэт Сергей Наровчатов писал о Луговском так: «Гвардейский рост, в строю всегда стоял правофланговым. Грудь — крутым колесом, прямо для регалий и аксельбантов. Профиль как на древнеримской медали — эдакий Траян или Тит. Взгляд как у орла с какой-нибудь верхотуры. А брови, брови… Всем бровям брови. Угловатыми воскрыльями, сходясь у переносицы, возносились они к высокому лбу. Женщины всех рас, наций и племён, всех возрастов и характеров возносили доброхотные жертвы на алтарь этого ходячего божества. Молодые разбойники, мы иногда натыкались на следы гульбищ старого пирата в виде размашисто подписанных фотокарточек и книжек в женских квартирах. “И ты тоже…” — “Что ты, что ты, он относился ко мне совсем по-отечески…”».
Ну да, ну да, читал стихи, мороженым кормил, рассказывал ошеломительные истории, смешил, пел песни. Немного рычал. Потом ещё пел.
Про Луговского одна из современниц совершенно спокойно и взвешенно говорила: «Он был бы великим певцом, если б не стал поэтом».
О том же Константин Симонов: «Он с какой-то особой мягкостью округлял свой бас, словно придерживал его на поворотах. И за этим чувствовалась мягкая, пружинистая сила».
Симонов вспоминал, как Луговской пел то на испанском, то на французском, то на английском — например, американскую песню о Джоне Брауне, который поднял восстание за свободу негров. «Мне и до сих пор (1961 год на дворе) кажется, — запишет Симонов, — что Луговской пел её невыразимо прекрасно».
Дело, конечно, не только в красоте, басе, славе и блистательной биографии.
Луговской был отлично образован и даже, в его духе, несколько бравировал своей образованностью. География, астрономия, история, архитектура, музыка — всё укладывалось в число его разносторонних интересов.
Читал по памяти Уитмена по-английски, следом — «Легенду об Уленшпигеле», следом — Горация на латыни и тут же «Слово о полку Игореве» — вдохновенно, целыми страницами.
Один день, рассказывают очевидцы, Луговской «с жаром, во всех деталях описывал военную форму, которую носили в русской армии в разные времена разные полки. А на другой день вспоминал могилы чуть ли не всех знаменитых людей» — снова, естественно, по памяти, ну то есть по книжкам — воссоздавал места захоронения и особые их приметы так, словно видел их сам.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: