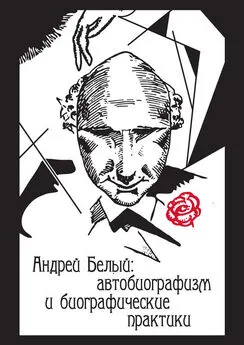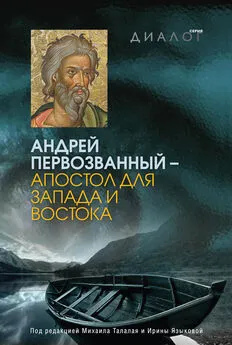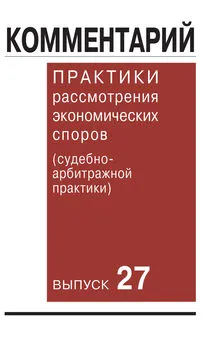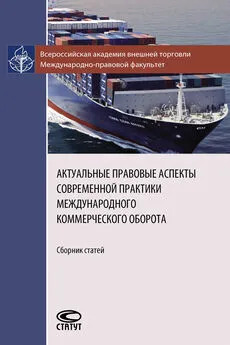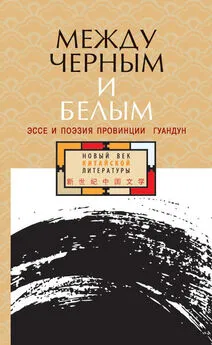Коллектив авторов - Андрей Белый: автобиографизм и биографические практики
- Название:Андрей Белый: автобиографизм и биографические практики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентНестор-История7684fd89-41fc-11e6-9c02-0cc47a5203ba
- Год:2015
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-4469-0663-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Андрей Белый: автобиографизм и биографические практики краткое содержание
В книге собраны статьи, посвященные жизни и творчеству прозаика, поэта, философа и антропософа-мистика Андрея Белого (1880–1934). В них выявляются сложные, разветвленные, прямые и опосредованные связи между фактами биографии писателя, его духовными переживаниями и художественным планом его произведений. Особое внимание уделяется особенностям эзотерического пути Андрея Белого. Авторы сборника доказывают, что изучение автобиографизма и биографических практик – ключ к пониманию феномена Андрея Белого. Книга – результат совместной работы Института славистики Падуанского университета и «Мемориальной квартиры Андрея Белого» (отдела Государственного музея А. С. Пушкина).
Андрей Белый: автобиографизм и биографические практики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Христианская теософия» Белого не сводилась к «свободной теософии» Вл. Соловьева. Теософское учение Е. П. Блаватской представлялось писателю, скорее всего, попыткой систематизации опыта восточной мистики; оно вызывало интерес, но лишь как точка отправления для собственных мифотворческих построений. Вопрос о синтезе религий, религии и культуры фундировал проблемное поле его раздумий над возможностью осуществления «христианской теософии». Андрей Белый, обосновывая философию новой культуры, «объединил теургию, теософию и метафизику в этической норме». [261]В 1902 г. Белый чувствует «полное разочарование в теософах». [262]Наконец, в 1903 г. он манифестирует: «<���…> теософии, как движению, противополагаю хр<���истианскую> теософию в смысле Вл. Соловьева; интересуюсь гностиками, Серафимом Саровским, читаю Исаака Сириянина <���…>. Созревает концепция теургии. Теургию и символизм противополагаю решительно теософии». [263]Идея теургии – ключевая в философской системе Вл. Соловьева, согласно ей «организация всей нашей действительности есть задача творчества универсального, предмет великого искусства – реализация человеком божественного начала во всей эмпирической действительности». [264]Эстетические поиски Андрея Белого и младших символистов определяло представление о мистической природе подлинного искусства, которое мыслилось как преобразование форм жизни. Для них художник становился носителем сверхчувственного опыта и провидцем высшей действительности, а поэтическое словотворчество освобождало сокровенную магическую силу языка и вновь, словно во времена заговоров и заклинаний, обретало власть над действительностью.
С начала 1900-х гг. Белый ищет «пути в несказанное». [265]Принимая поэзию как «путь, а не вершину пути», [266]он вырабатывает собственную стратегию поведения в культуре. Ее проблема решалась под знаком Личности: «Человек – миротворец: его мечта абсолютно реальна. Человек подобен Богу, как Творец. Его цель – восхитить силой Царствие Божие». [267]Однако преобразить действительность способен только тот, кто прошел жертвенный путь раскрытия и совершенствования своего духовного мира. Собственная индивидуальность рассматривалась Андреем Белым как проект, который необходимо осуществить. Личность, совершившая акт восхождения к высотам подлинного Я, несет в себе прообраз мира – такого, каким он должен быть. Для Андрея Белого работа над собой носила символический характер: это было приближение к третьей фазе культуры, мистерии человеческих отношений.
Поиск и обоснование новых форм культуры осуществлялся Белым в парадигме христианских ценностей: «Хочу все понять пред Судом Страшным, чтобы погибнуть навсегда, или навсегда спастись». [268]Конечно, вряд ли можно говорить о том, что поэт-символист следовал догматам ортодоксального христианства. Тем не менее нравственный императив определял путь его деятельного творчества: «Со всех сторон люди говорят о благе, о долге, о всеобщем счастье. Я устал от всех этих “о”. <���…>. Я хочу подвига, долга, счастья, а не слов “о”». [269]
Известно, что в творческой биографии поэта середина 1900-х гг. была ознаменована идейным и творческим кризисом, связанным с крахом жизнетворческого идеализма. [270]Встреча с Рудольфом Штейнером становится для поэта-символиста возвратом к эпохе мистических зорь. Особенность Белого как мыслителя была в том, что, отказываясь от формы своих исканий, он оставался верным их содержанию. Антропософское учение предстает для него «воплощением тех духовных и душевных интуиций, которые определяли и ранее его внутреннюю жизнь и формировали его самосознание». [271]В антропософии писатель увидел возможность к осуществлению синтеза. «Я глубоко взволнован: все мистические переживания моей жизни синтезированы теперь», – вспоминал Белый о переживаниях 1913 г. Мистика юношеских лет, по признанию писателя, становится с этого момента «не мистикой, не экстазом, а верным ведением». [272]
Антропософия манифестировалась как «углубленное христианство», и именно это оказалось наиболее привлекательным для Белого. В 1923 г. он вспоминал о встрече со Штейнером: «<���…> мне объяснились теперь впервые отчетливо и мои юношеские, апокалиптические переживания, связанные с встречей со Христом; <���…> апокалиптические переживания 1898 года, и впечатления от разговора с Владимиром Соловьевым в 1900 году». [273]Только что обращенный в новую веру, он убеждает Морозову: «Штейнер в печатных книгах своих не упоминает вслух имя Христово (он не говорит вовне, но работает изнутри во Имя: и работа его – 55 чисто христианских лож и ряд лож во Франции, Голландии <���…>, в которых все штейнеристы, т. е. христиане с реальным практическим путем, с реальною религиозною миссией). <���…> Штейнер теософ потому, что он толкует теософию не в смысле партийного движения в кавычках, а в прямом смысле – в смысле “Божеств<���енной> Мудрости”». [274]
Фигура Штейнера становится для Белого воплотившейся грезой о новой индивидуальности: «В Штейнере мы встретили то, что искали, то, что искал я всю жизнь: это человек безмерного духовного опыта, воин Христов, и вместе с тем этот воин Христов остается в горниле жизни». [275]Белый пускает Р. Штейнера в тайное тайных своего внутреннего мира: «<���…> мне кажется, что я сам не знаю тайну своего бытия, а доктор прочел ее; и знает». [276]Поэт-символист видит в Р. Штейнере проекцию своего высшего Я – такого, каким оно должно стать после преодоления посвятительного пути: «<���…>для меня Штейнер безмерное углубленье полусознательных моих грез, меня самого». [277]
Миф о жертвенном пути, на котором художник преображает себя и действительность, вырастает из юношеских мечтаний поэта-соловьевца, лидера кружка «Аргонавтов»: «“Аргонавты” себя ощущали не только символистами, но символистами практиками, теургами. <���…> Мы стремились к “мистерии”, к творчеству жизни, к конкретному перевороту». [278]Идея пути организует творческое целое наследия поэта-символиста. Е. В. Глухова считает (и с нею нельзя не согласиться), что посвятительный миф является «жизнестроительной моделью» в художественном сознании Белого, который «сознательно выстраивает свой жизненный путь <���…> в соответствии с архаическими и общепринятыми в оккультизме “посвятительными” схемами. И в этом смысле его восприятие собственного жизненного и духовного пути подчиняется логике инициатического сюжета». [279]
Белый вступает на путь антропософии именно как на реальный путь жизни: «путь работы над собою, чтобы не только чувствовать и знать, что нужно, но и мочь воплощать нужное». [280]Осознавая «всеобщее незнание основ жизни и духовного пути », Белый сетовал: «Мы, декаденты, или гибнем, как гибнет Блок, или путаемся в смешениях, как Иванов <���…>; но мы ищем, все еще ищем: ищем реального Хлеба Жизни». [281]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: