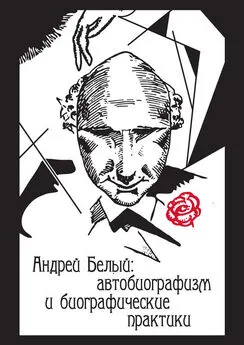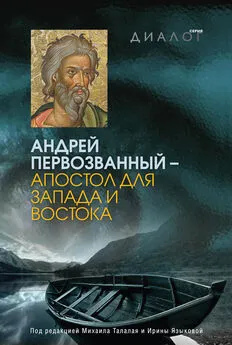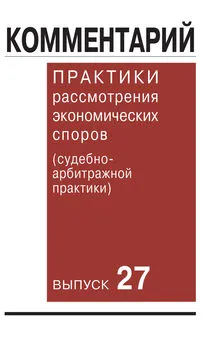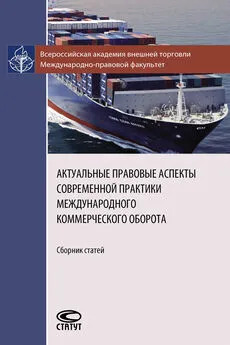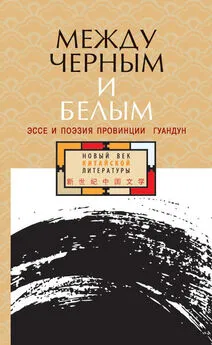Коллектив авторов - Андрей Белый: автобиографизм и биографические практики
- Название:Андрей Белый: автобиографизм и биографические практики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентНестор-История7684fd89-41fc-11e6-9c02-0cc47a5203ba
- Год:2015
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-4469-0663-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Андрей Белый: автобиографизм и биографические практики краткое содержание
В книге собраны статьи, посвященные жизни и творчеству прозаика, поэта, философа и антропософа-мистика Андрея Белого (1880–1934). В них выявляются сложные, разветвленные, прямые и опосредованные связи между фактами биографии писателя, его духовными переживаниями и художественным планом его произведений. Особое внимание уделяется особенностям эзотерического пути Андрея Белого. Авторы сборника доказывают, что изучение автобиографизма и биографических практик – ключ к пониманию феномена Андрея Белого. Книга – результат совместной работы Института славистики Падуанского университета и «Мемориальной квартиры Андрея Белого» (отдела Государственного музея А. С. Пушкина).
Андрей Белый: автобиографизм и биографические практики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вторую группу – предсказуемо – составляют упоминания, актуализирующие «протестующий радикализм Герцена». [519]Доказывая антибуржуазный пафос Э. Мане, Андрей Белый сопоставляет его эстетическую программу с общественной программой Герцена: «Лишь в Париже импрессия – самозащита художника: от буржуазии; то, от чего кричал Герцен, Мане отразил своей новой системой очков <���…>». [520]Мемуарист подводит советского читателя к выводу, что чисто формальный протест художников-импрессионистов имел ту же социальную природу, что и «крик» русского революционера (критика «мещанской» Европы, сформулированная в знаменитом цикле «С того берега» и, разумеется, в «Былом и думах», где Герцен возлагал на культурное «мещанство» вину и за поражение революции 1848 г., и за личную трагедию).
В третьем томе воспоминаний Белый повествует о восприятии революции 1905 г., свойственном ему самому и его близким. Задача мемуариста – демонстрировать приверженность революции и одновременно покаянно объяснить, почему не входил ни в какую революционную организацию:
«Проблема партии (“pars”) виделась: ограничением мировоззрения (“totum’a”), сложного в каждом; на него идти не хотели, за что не хвалю, – отмечаю: самоопределение, пережитое в картинах (своей в каждом), было слишком в нас односторонне упорно; слишком мы были интеллектуалисты и гордецы, видящие себя на гребне культуры, чтобы отдать и деталь взглядов: в партийную переделку; <���…> грех индивидуального задора сидел крепок в нас; поздней повторили по-новому историю Станкевичевского кружка, разбредшегося по всем фронтам (Катков возглавил “самодержавие”; Бакунин хотел возглавить “интернационал”; Тургенев возглавил кисло-сладкую литературщину); некогда пересознание Гегеля в левую диалектику привело к баррикадам; мы, переосознав “критический” идеализм в “критический”, по-нашему, символизм, себя приперли к вторичному переосознанию и наследства левых гегельянцев; со времени Маркса, Энгельса, Герцена и Бакунина теории социальной борьбы расслоились в оттенках (большевики, меньшевики, синдикалисты, гедисты, историческая школа, Бернштейн, Штаммлер, Форлендер и т. д.) ; [521]нас припирало не к “баррикаде” от партии, а к баррикаде томов, которые должны мы были прочесть – из воли к дебатам». [522]
Как легко убедиться, одним из приемов решения задачи стало уподобление себя окружению Герцена. В рукописном варианте уподобление доходило до того, что «мы» – вслед за передовыми людьми 1840-х – «себя приперли к вторичному переосознанию и наследства левых гегельянцев», значит, к марксизму, но в печатном варианте Белый снял дерзкое завершение мысли (выделено курсивом в цитате) и ограничился скромным уподоблением радикалам XIX в.
В предисловии же ко второму тому (датированном 1932 г.) мемуарист неожиданно признался, что «до окончания естественного факультета» не читал канонизированных коммунистической идеологией мыслителей – Маркса, Энгельса, Прудона, Фурье, Сен-Симона, энциклопедистов, Бакунина, Чернышевского, Ленина. В том числе – Герцена. Герцена, лаконично добавлено, «читал потом». [523]И более имя Герцена в мемуарной трилогии не встречается.
Расшифровывая хронологический смысл слов «читал потом», целесообразно принять в качестве точки отсчета критическую трилогию 1910–1911 гг. («Символизм», «Луг зеленый», «Арабески»), где имя Герцена практически не возникает, точнее возникает один раз и в откровенно декоративной функции. Очерчивая силуэт Д. С. Мережковского, Андрей Белый (статья 1907 г., включена в сборник «Арабески») представляет его «над Дионисием Ареопагитом или над Исааком Сириянином (может быть, над Бакуниным, Герценом, Шеллингом или даже над арабскими сказками – он читает все с ароматной сигарой в руке». [524]
Перелом, видимо, наступил в начале 1920-х – в годы деятельности Вольфилы (Вольная Философская Ассоциация), сблизившие Белого с Ивановым-Разумником и другими литераторами, для которых Герцен – актуальная, ключевая фигура.
Заседание памяти Герцена (18 января 1920 г.) – подчеркивает В. Г. Белоус в фундаментальном исследовании о Вольфиле – символически стало первым «персонально-тематическим» вольфильским собранием. [525]Собрание было организовано в рамках официальных торжеств (открытие памятника в Москве, заседания в Социалистической академии и Музее революции и т. п.). Иллюстрируя идейное «послание» участников Вольфилы, В. Г. Белоус цитирует замечательные воспоминания А. З. Штейнберга:
«Имя Герцена знали из большевистской печати, где он изображался как один из отцов большевистской партии и всего марксизма. Наше открытое собрание было посвящено разбору сочинения Герцена “С того берега”. Суть собрания сводилась к тому, можем ли мы, недостаточно оперившиеся, публично поставить вопрос, с кем был бы Герцен сегодня, если бы остался в живых? Был бы он целиком на стороне правящей партии? Был бы одним из адептов, хоть и запоздавших, но в конце концов примкнувших к марксизму? С какого берега говорил бы Герцен?» [526]
В итоге азартной работы была найдена формула «духовного максимализма»:
«Организаторы содружества понимали, что внятный разговор с публикой о новом самосознании возможен при условии, если содержание духовного максимализма будет персонифицировано, объективировано в образцах для подражания. Недаром с первых собраний ВФА этот первопринцип начинает отождествляться с именами А. И. Герцена, П. Л. Лаврова и В. С. Соловьева». [527]
Найденная формула идеально синтезировала духовные искания «серебряного века» и искания левых мыслителей, не желавших солидаризироваться с диктатурой, но учитывавших бдительный надзор над интеллигенцией.
Надо сказать, что в различные периоды своего творчества Андрей Белый использовал – по его собственному определению – стратегию «символизаций», (что подразумевало «построение моделей переживаниям посредством образов видимости», [528]то есть адаптацию многообразных «чужых» дискурсов: целых областей знания или искусства, с их градациями, взаимопереходами и т. п. [529]
Так, Андрей Белый адаптировал вольфильскую формулу, когда писал в некрологе Блоку (осень 1921 г.):
«Блок – русский конкретный философ, вынашивающий будущее русской Софии-Премудрости; в ней темы Вл. Соловьева, Федорова (“Философия общего дела”) и русской общественной мысли (Лавров, Герцен, Бакунин) сплетаются, сочетаются в некое новое “ Само- ”; в русское самосознание будущего». [530]
Но одновременно Белый, следуя стратегии «символизаций», не просто повторяет, а трансформирует воспринятую формулу. В рамках деятельности ВФА он пропагандировал антропософию, читал курсы лекций «Культура мысли» и «Антропософия как путь самопознания», а потому соединение имен Соловьева, Герцена и других дополнительно подразумевает апелляцию к антропософии – к антропософскому видению мировой истории и миссии русской культуры («русское самосознание будущего»).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: