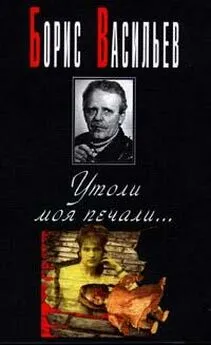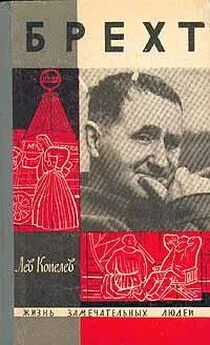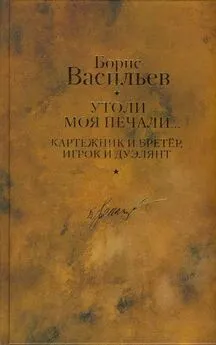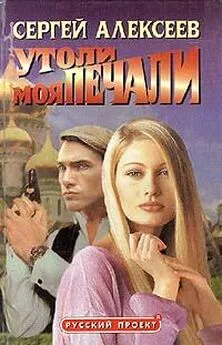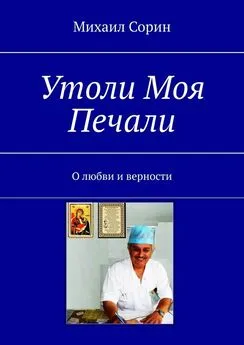Лев Копелев - Утоли моя печали
- Название:Утоли моя печали
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Копелев - Утоли моя печали краткое содержание
Это заключительная книга автобиографической трилогии известного писателя, литературного критика, германиста Льва Копелева, вышедшей на Западе в издательстве «Ардис»: «И сотворил себе кумира», «Хранить вечно» и «Утоли моя печали». В последней описана та самая «шарашка», где вместе работали «зеки» — А. Солженицын, Л. Копелев, Дм. Панин, ставшие прототипами героев романа А. Солженицына «В круге первом».
Утоли моя печали - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мы ходили по лагерной улице или сидели на скамеечках сзади юрты у цветников. Три зека в синих арестантских комбинезонах, не имевшие права приближаться к колючей проволоке. Утром и вечером нас пересчитывали, как скот. Бесправные, а больше года уже и безымянные рабы. Но, забывая обо всем этом, мы сосредоточенно, увлеченно рассуждали о судьбах страны, партии, вспоминали, спорили, точь-в-точь как на партийных собраниях двадцатых годов или в кругу единомышленников, готовящихся к дискуссии…
Федор Николаевич, покашливая, поплевывая, терпеливо выслушивал пылкие речи оппонентов и отвечал, словно думая вслух:
— У Троцкого, у ленинградцев, у других левых были организованные фракции. Тут ничего не скажешь. Они и конспирировали против ЦК, но Николай Иванович Бухарин, и Алексей Иванович Рыков, и Михаил Павлович Томский, и все мы — так называемые правые — никаких фракций никогда не устраивали. Мы открыто спорили, бывало, и крепко ругались. Так ведь и с Ильичем случалось товарищам поспорить. Да еще как! В самые трудные времена из-за Брестского мира, из-за нэпа… Но мы не учли новых условий. Рабочий класс уже не тот. Большинство лучших, сознательных, активных пролетариев ушли с заводов. Кто в гражданку погиб, кто в оппозиции ушел, а кто в аппарат, как я. Перестали быть пролетариями, обросли, превратились в бюрократов, в мещан. Те, кто еще на заводах оставался, были там самое малое меньшинство. А миллионы новых рабочих уже никакие не пролетарии. Мы твердили: «класс-гегемон», «диктатура пролетариата»… А подумать всерьез — так ведь настоящая власть — аппарат. И Сталин это понял раньше нас. Старики его недооценили. Никто из них даже и мысли не допускал, что он может заменить Ленина. Его выбрали в Генсеки, ну, как хорошего коменданта милиции, или, по-старому, пристава, чтоб наблюдал порядок, дисциплину, не допускал драк за власть. Ведь это Зиновьев и Каменев его выдвигали. Они Троцкого опасались, ревновали Владимира Ильича к нему, о бонапартизме поговаривали. Потом Бухарин и Рыков с его помощью хотели вытеснить всех левых и троцкистов. Так и росла его власть — от оппозиции к оппозиции, от съезда к съезду. И все-таки нельзя переоценивать роль его личности. Не он один создавал этот аппарат, не он его придумал. Даже наоборот, он был, можно сказать, выдвиженцем аппарата…
На это я пытался возражать. И объяснял — не оправдывал, но объяснял коварство и жестокость Сталина историческими традициями и современными общественными условиями; сравнивал его с Иваном Грозным, с Петром Великим… Эрнст сердился — как можно сравнивать. То были феодалы, деспоты; им так и положено, для их классов это закономерно, а Сталин предавал рабочий класс, искажал принципы коммунизма.
Федор Николаевич не горячился:
— Исторические сравнения всегда ненадежны, хоть и красивые бывают. Меньшевики очень любили с Французской революцией сравнивать: Ленин — Робеспьер, Троцкий — Дантон… Но, по-моему, это несерьезно. Правда, Сталин сам и на Ивана Грозного, и на Петра ссылался. Но только царь Иван и царь Петр, как их там ни суди, в общем действительно революционерами были, старое ломали, новое начинали. А Сталин сам ничего нового не придумал. Только чужие дрова ломал. Такая индустриализация, такая коллективизация и самым диким троцкистам не снились… Если б не все эти сталинские «достижения», если б не голод, не ежовщина — не пришлось бы отступать до Волги… Может быть, тогда и Гитлер не пришел бы к власти.
Но я чувствовал и уже начинал сознавать, что дело не только в экономических закономерностях. Независимо от «материальных факторов», от внутрипартийных дискуссий, от вождей и аппаратчиков, на людей действуют и какие-то другие силы — духовные, нравственные.
Об этом я думал и в Восточной Пруссии, и в первые дни после ареста. Пытаясь уяснить себе природу этих сил, я вспоминал о книгах Толстого, Достоевского, Короленко и о тех людях, которых раньше знал, но воспринимал как милых чудаков, как олицетворенные «исключения из правила».
…Летом 29-го года я готовился поступать в институт и брал уроки математики у дальнего родственника Матвея Мейтува, доцента университета. Его считали гениальным математиком. Он был высокий, очень худой, сутулый, черно-смуглый, губастый. А его маленькая жена казалась девочкой-подростком, серенько-русая, скуластенькая. Но в то же время они явственно походили друг на друга кроткими добрыми взглядами и улыбками. Их единственная узкая комната была заставлена книжными шкафами. На стене висел большой гравюрный портрет Льва Толстого. На тумбочке у кровати лежало Евангелие.
Мы занимались за круглым обеденным столом, покрытым плешивой плюшевой скатертью. Он втолковывал трем самоуверенным юнцам — двум поэтам-полиглотам и мне — «политическому деятелю», который лишь недавно «отошел от оппозиции», — алгебру и тригонометрию… Временами он даже пытался объяснить нам красоту и стройность математических решений. Вдохновенно сверкая глазами и брызгая слюной, он говорил: «Как же вы не понимаете? Это неправильно уже потому, что некрасиво. Ведь здесь все диссонирует… А если мы возьмем так… А потом так… Вы видите? Простейшая подстановка. И вот все получается гармонично и красиво!»
Однажды я попытался завести разговор о том, насколько совместимы научные и религиозные взгляды; он отклонил его кротко, но решительно:
— Не надо, пожалуйста, не надо. Это область веры, а не знаний. Чувства, а не рассудка… Я знаю, в данном случае именно знаю, что в этих вопросах никто никого не может убедить или переубедить. Ничего нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Вы думаете по-иному, верите в иное, и я не могу с вами спорить. Не могу и не хочу. Полагаю бесцельным, бесплодным… Вот если вы скажете, что дважды два равно пяти или что сумма углов треугольника больше двух «дэ», я постараюсь вас переубедить…
Он казался мне — самоуверенному, семнадцатилетнему «марксисту» — недалеким, наивным чудаком. Он был тяжело болен — туберкулез легких и костей. Вера приносила ему утешение, облегчение. Значит, не следовало и спорить.
В 1931 году в университете к доценту Мейтуву подошел один из студентов:
— Правда ли, что вы убежденный толстовец и поэтому не хотите брать оружие в руки для защиты социалистического отечества?
Мотя постарался уклониться от интервью и показал на свою правую руку, изувеченную костным туберкулезом и трофической язвой, с навсегда скрюченной кистью.
— А если бы вы были здоровы? Тогда в случае войны вы пошли бы в Красную Армию?
— Пошел бы санитаром.
— Значит, вы отказываетесь от почетного права — сражаться рядах РККА?! Как вы можете это объяснить? Это у вас такие религиозные убеждения? Мы хотим, чтобы вы открыто высказались на собрании…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: