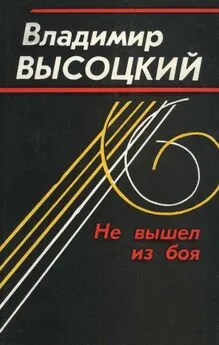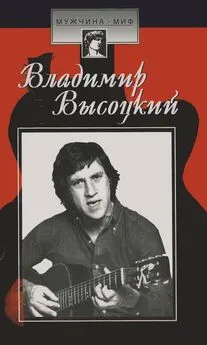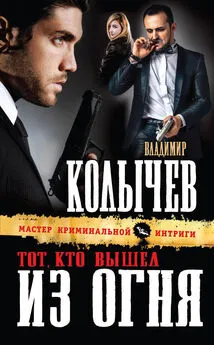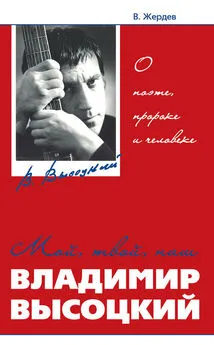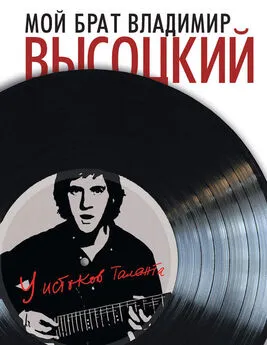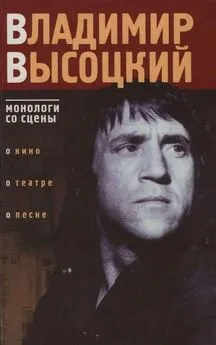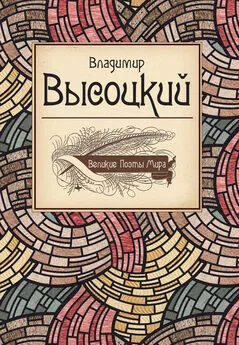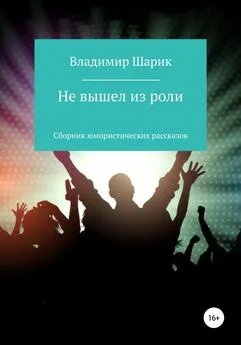Владимир Высоцкий - Не вышел из боя
- Название:Не вышел из боя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центрально-Черноземное книжное издательство
- Год:1989
- Город:Воронеж
- ISBN:5-7458-0033-Х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Высоцкий - Не вышел из боя краткое содержание
В настоящее издание вошло более трехсот поэтических произведений лауреата Государственной премии СССР Владимира Высоцкого, неоконченный «Роман о девочках», воспоминания, статьи, этюды о жизни и творчестве поэта…
Не вышел из боя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Прошел срок — довольно большой — после его смерти. Я его сейчас чаще вспоминаю, чем когда он был жив. Он до сих пор мне дарит своих друзей, о существовании которых я даже не подозревала. Я по-другому смотрю фильмы с его участием, по-другому слушаю его записи. Перед вечерними спектаклями я очень часто слушаю песни Высоцкого, чтобы набраться от него энергии, сил, жизнелюбия… И я думаю, обобщая его короткую жизнь, что же было главным, что определяло его суть? И почему именно он нашел отклик в сердцах у десятков миллионов людей? Я не социолог, но мне кажется, бродившие чувства протеста, самовыявления, осознания были выражены в искусстве, в данном случае в театре шестидесятых годов, — криком. Мы многое не могли выразить в словах, но крик боли резонировал. Высоцкий своим уникальным голосом как никто подхватил эту ноту.
Читая его стихи, видишь, что некоторые из них несовершенны. Но у него нет ни строчки лжи, ни поэтического флера, ни тех завитков, которыми так грешила наша авангардная поэзия того двадцатилетия. Чувство — слово — средства выражения у него сливались. Не возникало ни зазоринки, ни щели для обмана и туфты. Он жил — и писал так.
Белла АХМАДУЛИНА
В. Высоцкому
Твой случай таков,
что мужи этих мест и предместий
белее Офелии
бродят с безумьем во взоре.
Нам, виды видавшим,
ответствуй, как деве прелестной:
так — быть? Или — как?
Что решил ты в своем
Эльсиноре?
Пусть каждый в своем
Эльсиноре
решает как может.
Дарующий радость,
ты — щедрый даритель страданья.
Но Дании всякой нам данной
тот славу умножит,
кто подданных души
возвысит до слез, до рыданья.
Спасение в том,
что сумели собраться на площадь
не сборищем сброда,
бегущим взглянуть на Нерона,
а стройным собором собратьев,
отринувших пошлость.
Народ — невредим,
если боль о певце — всенародна.
Народ, народившись, — не неуч,
он ныне и присно
не слушатель вздора
и не покупатель вещицы.
Певца обожая — расплачемся.
Доблестна тризна.
Так быть? Или как?
Мне как быть? Не взыщите.
Люблю и хвалю
не отвергшего гибельной чаши.
В обнимку уходим —
все дальше, все выше, все чище.
Не скаредны мы —
и сердца разрываются наши.
Лишь так справедливо.
Ведь если не наши, то чьи же?
Юрий КАРЯКИН. О ПЕСНЯХ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО
Боюсь: никакой неприятель Высоцкого не причинил ему столько вреда, сколько идолопоклонство, как всегда безответственное и неопрятное. «Образовать» тех, о ком сам Высоцкий говорил: «Терпенье, психопаты и кликуши!», — куда труднее, чем переубедить тех, кто не приемлет его как певца.
Но разве не верно и другое: несмотря на очевидную неравноценность его песен (он же двигался, развивался, совершенствовался), несмотря на явные противоречия творческого пути его, столь же очевидно вырисовывается главное — необыкновенная его популярность в самом точном, старинном смысле этого слова. Это факт. И сколь недостойно кликушествовать, столь же недостойно и отрицать этот факт. «Как же так? — пел Высоцкий. — Я ваш брат…»
Вспомним слова одного писателя прошлого века: «Самоуважение нам нужно, наконец, а не самооплевание…»
Почему и сейчас не выходит из памяти, все звучат и звучат, болят и болят в нас его песни и особенно, как у многих, наверное:
Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому по
краю,
Я коней своих нагайкою стегаю, погоняю.
Что-то воздуху мне мало — ветер пью, туман
глотаю,
Чую с гибельным восторгом: пропадаю,
пропадаю-у-у…
Впервые вижу я сейчас его строки напечатанными, впервые слежу их глазами, а на самом деле ведь только слышу их. Все равно они для меня пока только звучат, звучат только его голосом и никак иначе. А вижу я сейчас не строчки, а его самого: его лицо, каменеющее, когда он поет, его набрякшую шею с жилами, готовыми разорваться от напряжения, — так что и смотреть страшно, и глаз нельзя оторвать: так это мощно, красиво…
А может быть, не только и не столько для нашего чтения (вслух или «про себя») писал он большинство своих стихов, сколько именно для того, чтобы их спеть, спеть самому — о нас и для нас. Может быть, в этом и есть их природа, а стало быть, по этому их закону мы и должны их понимать?
Непостижимо: откуда он, молодой, так много и так кровно знал про нас про всех? Про войну — сам не воевал. Про тюрьмы — сам не сидел. Про деревню нашу — сам-то горожанин, москвич прирожденный («Дом на Первой Мещанской, в конце…»).
Откуда эта щемящая — фольклорная — достоверность? Никакая тут не стилизация: он о родном, о своем поет:
В синем небе, колокольнями проколотом,
Медный колокол-л-л, медный колокол-л-л
То ль возрадовался, то ли осерчал.
Купола в России кроют чистым золотом,
Чтобы чаще господь замечал…
Как успел он вместить, прожить столько жизней и каких!..
И как все-таки много может сделать один-единственный человек, а ведь даже и он не все сделал.
Откуда все это? Можно сказать: дар такой, и все тут. Но как определить сам этот дар? Вряд ли сейчас придет исчерпывающий ответ. Но одно кажется очевидным: без дара любви к своей стране, к народу своему Высоцкий вообще необъясним (как необъяснимо без этого дара ни одно из явлений настоящего искусства). Очень проницательной бывает ненависть, но сама по себе, даже святая, она всегда в чем-то ущербна, ограниченна, а уж когда она неправедна, то вся ее дьявольская проницательность оказывается не открытием, а закрытием: она прицельно, злорадно бьет по больным местам — убивает. О равнодушии нечего и говорить: оно, так сказать, принципиально верхоглядно, лениво и импотентно. Безграничен же в своей проницательности лишь дар любви к родному. Отсюда чуткость к боли, догадливость к беде, нелицемерное сострадание и сорадование.
Вот уж кто не берег, не щадил себя, чтобы отыскать, открыть и прокричать-пропеть правду, чтобы так сблизить людей и (это уж и вовсе кажется чудом) сблизить совсем разные, далекие поколения — шестидесятилетних и подростков нынешних.
Почти каждую свою песню пел он на предельном пределе сил человеческих. А сколько у него таких песен, и сколько раз он их так пел! И если уж одно это исполнение производит такое потрясающее впечатление, то какой же ценой, нервами какими и кровью они создавались? Какой за этим труд?
Он был на редкость удачлив. Но это была удачливость без презрения к неудачникам. И в то же время чувствовалась чисто мужская, мужицкая твердость, твердость человека, умеющего работать до седьмого пота, знающего цену работы, а потому жесткого к людям ноющим, неработающим. Неудача может быть в работе— как же иначе? Пожалуй, даже и не может быть работы без неудач. Но неудача, связанная с бездельем, неудача в… безделье?.. Никакая тут не трагедия, а фарс, празднословие.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: