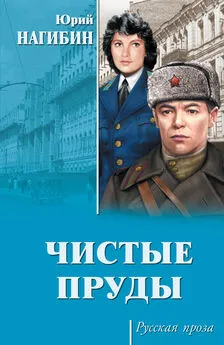Юрий Нагибин - О любви (сборник)
- Название:О любви (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:РИПОЛ классик
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-386-02031-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Нагибин - О любви (сборник) краткое содержание
В этой книге — лучшие произведения Юрия Нагибина о любви, написанные за тридцать лет. Он признавался, что лист бумаги для него — это «порыв к отдушине», когда не хватало воздуха, он выплескивал переживания на страницы. В искренности и исповедальности — сила его прозы. Скандальная повесть «Моя золотая теща» — остросоциальная картина разнузданных нравов верхушки советского сталинского общества, пуританских лишь декларативно. Повесть «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя» — о первой любви, о запретных, фатальных страстях, и на закате жизни — трагическая история синего лягушонка, тоскующего после смерти о своей возлюбленной. За эротизм, интимность, за откровенность «потаенных» тем его называли «русским Генри Миллером», критики осуждали, ломали копья, но единогласно называли его произведения шедеврами.
О любви (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но война, как говорил Швейк, занятие для маленьких детей, я же пишу о серьезном, о жизни человеческого сердца.
Мы никогда прежде не переписывались с Дашей, а в письмах человек всегда оказывается иным, чем в живом общении. Потом, когда ты привыкаешь к новому ракурсу, как к почерку, он почти сливается со своим привычным образом.
Женщины почти всегда хорошо пишут письма и почти всегда в них — другие. Быть может, причина лежит в лживости женской натуры. Врать письменно, притворяться, имитировать чувство гораздо легче на расстоянии, когда не видно лица, глаз и можно спокойно моделировать воображаемую действительность. Лишь очень прямые натуры, как у моей матери, мгновенно узнаваемы в письмах, но не талантливы.
В Дашиных умело выстроенных посланиях я плохо чувствовал ее. Меня удивило, что она умеет так литературно писать, и когда она сообщила нежданную новость, что бросила на последнем курсе ненавистный текстильный институт и поступила в Литературный имени Горького, я принял это как должное. Конечно, ей помог Гербет, преподававший там философию, потому что домашних работ, свидетельствующих о творческих возможностях, она представить не могла — сроду не притрагивалась к перу. Эпистолярный жанр, у нас отсутствующий, — совершенно особый род литературы, женщина, пишущая прекрасные письма, может оказаться не в состоянии накорябать газетную заметку. Я никогда не слышал от Даши таких гладких, круглых и пространных фраз, из которых состояли ее письма. Живая речь моей жены была крайне проста, скупа, малословна и точна. Мне нравилось, как она разговаривает, потому что за каждым словом отчетливо возникал предмет, явление, чувство. Слово было адекватно тому, что оно призвано выразить. А в этой новой мадам де Севиньи я тщетно пытался разглядеть милые черты, она ускользала от меня в своей изящной, чуть жеманной эпистолярной прозе. Но вместе с тем я гордился ее письмами, ценя то усилие, которое она в них вкладывала. Не писала впопыхах, тяп-ляп, лишь бы отделаться, а отдавалась этому как благостному труду. Брала тугой хороший лист бумаги, свежее перо и на час, а то и более уходила в общение со мной.
Я послал Даше свою маленькую фотографию, сделанную для командирского удостоверения. Я был пострижен под бокс, что выглядело довольно вульгарно, но художник Шишловский, наш сотрудник, ловко пририсовал меховой треух, придавший мне весьма лихой вид. Даша написала: «Спасибо Шишловскому за красивого мужа». Я снова ощутил ужимку, но горделиво показал письмо Шишловскому. Постепенно я стал как-то привыкать к этой эпистолярной Даше, но слияния контуров — прежнего и нынешнего — не произошло.
Даша словно помолодела. Она и так была далеко не старуха — двадцать три года, но она жила не в советском, а в дореволюционном возрасте; у нас в двадцать три — комсомолка, а в старину — молодая дама либо грустный перестарок. Даша никогда не выглядела студенткой, а сейчас за ее письмами мне виделось румяное лицо литвузовки, общественницы и чуть ли не комсомолки.
Когда же в этих солнечных письмах возникала нота тоски: она писала что в обморочной яви видит меня коленопреклоненным возле ее тахты, — я испытывал не волнение, а стыд, как от разглашения интимной тайны. И чем дальше, тем отчетливей ощущал я фальшь литературного приема. Порой я спрашивал себя: а было ли ей хоть немного грустно, когда я уехал? Конечно, вариант с Литературным институтом был просчитан семьей еще до моего отъезда на фронт.
Тоска по Даше как-то раздваивалась. Я тосковал и душой и телом по Даше коктебельской, Даше Подколокольного переулка, Даше на столешнице пустой летней квартиры Гербетов, Даше на краешке низкой тахты, Даше лесной, Даше в грохоте воздушного налета, Даше, тепло и дружески улыбающейся Павлику, когда она впервые увидела его бритую маленькую солдатскую голову, Даше, танцующей с Оськой под ресторанное танго, и по многим другим Дашам, но не по той Даше, что всплывала со страниц длинных, старательных писем: увлеченной студентке и общественнице, посещающей раненых в госпиталях, хлестко судящей о скудной военной литературе, своей в доску среди однокашников.
Даша словно наверстывала ту глуповатую студенческую молодость, которой была лишена в положенное время, потраченное на врага сумбурной антинародной музыки, отчасти — на борьбу за меня.
Случалось ли вам видеть, как выпускают коров после долгого зимнего стойлового содержания на волю, на весеннюю травку? Огромные, неуклюжие, рогатые, с тяжелым выменем и печальными глазами, животные прыгают, скачут, задирают морды к небу, мычат, валяются на траве, чуть ли не кувыркаются. Зрелище нелепое и до слез трогательное. Об этом напомнила мне Дашина метаморфоза, но трогательного чувства я не испытывал.
Напротив. Тут пахло воровством У меня украли мою Дашу с полного ее согласия. Конечно, я далеко не сразу понял, а поняв, признал свою потерю, прошли месяцы, прежде чем я отважился найти для случившегося прямое слово. Каждое новое письмо Даши — она строго дозировала переписку — уводило ее все дальше от меня.
Меж тем вокруг творилась весна с шипящим таянием толстых снегов, бурлили ручьи, грачи кружились над разрушенной колокольней, пахло землей и набухающими почками, и высокий тонус прифронтовой половой жизни достиг размаха стихийного бедствия. Мужчины совсем осатанели от доступности юных существ в шинелях и голубых мужских кальсонах, плотно обтягивающих крепкие икры. Не знаю, как на других фронтах, на Волховском все дамы и девицы: связистки, почтарши, телефонистки, медсестры, сандружинницы, официантки офицерских столовых, кладовщицы, машинистки и секретарши военных канцелярий — щеголяли в люминисцирующих кальсонах цвета неба венецианца Тьеполо.
Ночью над Малой Вишерой, где в ту пору располагалось ПУ и другие учреждения фронтового значения, воздух полнился любовным стоном. И в этом половом раю я вел себя как старый евнух. Надо мной смеялись, хоть придумывай себе роман, чтобы не быть притчей во языцех. Но я не мог быть с другой женщиной, я был отравлен Дашей.
Особенно остро я ощутил это, когда мы перебрались в деревню Акуловку под Неболчами. Немцы, проведавшие, что Малая Вишера — мозговой центр фронта, яростно бомбили нас с пикирующих «юнкерсов». Мне кажется, им следовало бы оберегать мозг, помогавший 2-й Ударной попасть в приготовленный под Мясным бором котел. Впрочем, главным поваром тут был Сталин, упорно не внимавший предупреждениям Власова и Мерецкова. Другим объектом бомбежки была железнодорожная станция. А там на запасных путях стоял поезд-типография, где печатались «Фронтовая правда» и наша «Зольдатен фронт Цейтунг» — для войск противника. И поезд решили хорошенько упрятать в лесу. Такой лес нашелся в одиннадцати километрах от Неболчей, откуда начинался пока что бесславный путь Волховского фронта.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
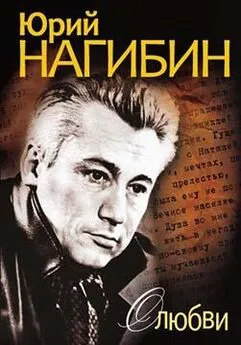
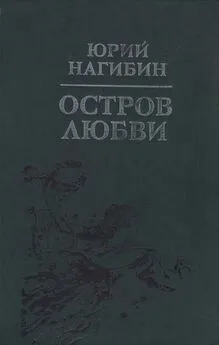
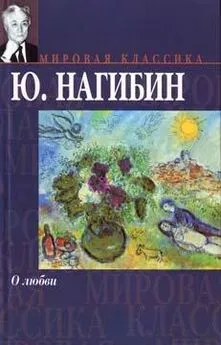
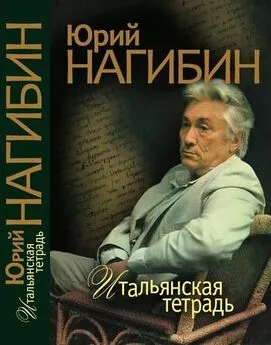
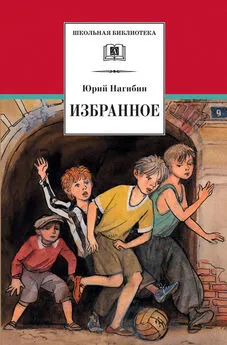
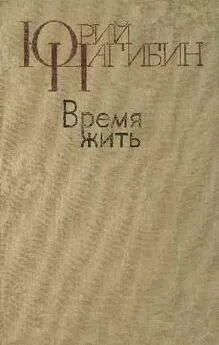
![Юрий Нагибин - Вместо предисловия [к сборнику «Время жить»]](/books/522135/yurij-nagibin-vmesto-predisloviya-k-sborniku-vremya.webp)

![Юрий Нагибин - Непобедимый Арсенов [сборник]](/books/1078047/yurij-nagibin-nepobedimyj-arsenov-sbornik.webp)