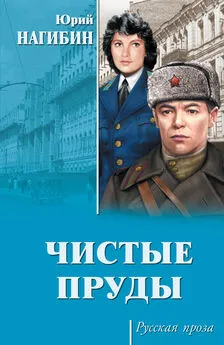Юрий Нагибин - О любви (сборник)
- Название:О любви (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:РИПОЛ классик
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-386-02031-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Нагибин - О любви (сборник) краткое содержание
В этой книге — лучшие произведения Юрия Нагибина о любви, написанные за тридцать лет. Он признавался, что лист бумаги для него — это «порыв к отдушине», когда не хватало воздуха, он выплескивал переживания на страницы. В искренности и исповедальности — сила его прозы. Скандальная повесть «Моя золотая теща» — остросоциальная картина разнузданных нравов верхушки советского сталинского общества, пуританских лишь декларативно. Повесть «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя» — о первой любви, о запретных, фатальных страстях, и на закате жизни — трагическая история синего лягушонка, тоскующего после смерти о своей возлюбленной. За эротизм, интимность, за откровенность «потаенных» тем его называли «русским Генри Миллером», критики осуждали, ломали копья, но единогласно называли его произведения шедеврами.
О любви (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Даша высеменила в коридор, не закрыв за собой дверь, и столкнулась с Гербетом.
— Как мама? — тихо спросил он.
И тут в квартиру постучали. Даша и Гербет уставились на входную дверь, не зная, пускать или не пускать нежданного посетителя. А тот проявил настойчивость, он тряс дверь, так что звякала цепочка.
И мы услышали не наполненный плотью звука голос:
— Там Боря… Откройте…
Пастернак влетел, распространяя запах «Шипра» и пудры. Выбритый до кости, с седым начесом вкось лба, в белых брюках и белых, начищенных зубным порошком парусиновых туфлях, черном пиджаке и рубашке апаш, открывающей в распахнутом вороте крепкую загорелую грудь, он исходил силой жизни, глаза сверкали, а рот плотоядно улыбался, открывая конскую челюсть. Вскоре он вставит зубы, давшие красоту и без того замечательному лицу. Он чувствовал себя нарядным, бодрым и счастливым, спешил на любовное свидание, а сюда заглянул, искупая жестом милосердия слишком большое счастье разделенной любви.
Пастернак когда-то сказал, что самое важное для поэта — не стихи, которые он пишет, и уж никак не слава и признание, а творческое состояние. Считается, что он был страстно влюблен в первую жену, в Зинаиду Николаевну, и Ольгу Ивинскую, да он и сам так считал. Но главным для него была не любимая женщина, а состояние любви. Он был влюблен в себя влюбленного. Иначе и не могло быть у такого эгоцентрика, как Борис Леонидович, умудрившегося, в чем он сам позднее признавался, пройти мимо всей современной ему поэзии (кроме Маяковского, в котором с облегчением разочаровался), в упор не видевшего даже близких — и очень больших — людей. Страшновато читать его «слепую» переписку с двоюродной сестрой, умной, высокоталантливой Фрейденберг, — с полубезумной рассеянностью и упорством он приглашает умирающую от голода в Ленинграде блокадницу погостить у него в Переделкине. Ему все прощалось за талант и какое-то звериное изящество натуры, лишь Зинаида Николаевна, подобно другой великой жене, Софье Андреевне, мерила мужа житейской мерой и глубоко презирала.
Пастернак ворвался в квартиру, пахнущую смертью, как самум, как торнадо.
— Здравствуйте!.. Bce!.. Bce!.. Bce!.. Как Анечка?.. Лучше? — Он пропустил мимо ушей шепот Гербета, что хуже. — Должно быть лучше, когда такая весна! Что за дни стоят!.. Господь Бог послал такую погоду!..
— Боренька, что вы там шумите в коридоре? — Как странно было услышать почти прежний голос Анны Михайловны. — Идите сюда.
Пастернак сделал какое-то летучее движение и оказался в комнате больной, мы вкатились за ним следом, хотя нас не звали.
Хорошенькая компания собралась у смертного ложа: один был от бабы, другой шел к бабе, у третьего раскаленный прут углом выпячивал ширинку, четвертая так и не сумела натянуть штаны. Чистой духовностью веяло лишь от умирающей. Мы же были вульгарно шумны и физиологичны. Но кто знает, быть может, больной был полезен этот грубый ток жизни, тогда мы не заслуживаем казни.
Борис Леонидович лучился энергией успеха: театры дерутся за его шекспировские переводы, стихи из романа печатаются в журналах, они у всех на устах, сам роман ждет блистательная будущность (так оно в конечном счете и оказалось), а ко всему еще — и важнее всего — эта великолепная, пьянящая погода! «Милый человек, — говорила Ахматова, прочтя революционные поэмы Бориса Леонидовича, — он думает, что пишет о революции, а пишет о погоде». А сейчас мне показалось, что, говоря о погоде, «милый человек» имел в виду свою любовь, во всяком случае, она включалась в опьянение погодой. Я думаю, что Анна Михайловна понимала это; не знаю, как относилась она к последней любви Бориса Леонидовича — в доме при мне об этом никогда не говорили, — но сейчас улыбчиво отзывалась на оленью трубу страсти. Она даже попросила Дашу поднять ей повыше подушки.
Я ушел вслед за Пастернаком, оставив семью в каком-то праздничном изнеможении.
Под утро Анна Михайловна умерла…
Ночью Даша услышала какой-то шум — вот она, машинальность письма, — мышиный шорох и вскочила со своей раскладушки. Горел ночник, мать с закрытыми глазами шарила пальцами по одеялу, простыне, дотягивалась порой до ночного столика, как будто что-то искала. «Прибирается, — говорят в народе, — значит, сейчас помрет». Даша не знала этой приметы. «Ты хочешь пить?» — спросила она. «Нет, — низким, чужим голосом ответила мать. — Где Марцелл?» — «Вот он». Даша положила руку матери на книгу. «Где Платон?» — тем же отчужденным голосом спросила Анна Михайловна. «Вот он». — «Положи мне на грудь. Где Аристотель?» — «Здесь». — «Положи справа». Даша повиновалась. «Слушай внимательно. Платье тафтяное серое, мое любимое, туфли серые замшевые… И только обручальное кольцо… Ты поняла?.. Ничего больше. Прощение всем… И прошу… меня тоже… Поцелуй… Ну, вот и все. Теперь ступай… Хочу одна…» И это было так сказано, что Даша тут же вышла. Она думала разбудить Гербета, но вспомнила, что мать ей этого не наказывала. Ему не нашлось места в последних распоряжениях матери. Значит, он ей не нужен…
Даша долго плакала, затыкая рот шерстяным платком, чтобы мать не услышала, а затем вдруг уснула — каким-то мгновенным провалом. Она проснулась около восьми утра, прислушалась и поняла, что мамы уже нет…
Вот и не стало Анны Михайловны. Боже, как я ее ненавидел вплоть до того дня, когда под моими губами оказалась ее гибнущая плоть. А ведь вся ее вина, скорее беда, была в избытке любви. Безмерность никогда не доводит до добра. Ее судьба в чем-то схожа с судьбой моей матери, а моя — с Дашиной. Нам обоим с появлением на свет было отказано в отцовской защите, и вся ответственность за нашу хрупкую жизнь легла на матерей. Анне Михайловне повезло больше: робкий, трусливый, дрожащий Гербет оказался прочен, как утес, в советском море. У матери все хорошо началось, но с двадцать восьмого года ее жизнь стала неотделима от таких слов, как «передача», «свидание», «тюрьма», «пересылка», «этап», «лагерь», «ссылка». Вечным узником стал мой приемный отец и умер в ссылке, сел в тридцать седьмом отчим. Мать смертельно боялась за меня, но ее страх был ориентирован в сторону Лубянки — площади Дзержинского, в остальном умела обуздывать свой страх, она не вмешивалась в мою жизнь. Анна Михайловна как испугалась за крошечный беспомощный комочек плоти, что поднесли к ее груди, так и не избавилась от этого страха. Она словно не видела, что бедный чавкающий комочек стал изобильной плотью, и все хотела держать дочь у своей груди. Страх — плохой советчик. Все выстрелы Анны Михайловны были мимо цели, вплоть до последнего. Она опоздала вернуть мне Дашу.
Я тяжело переживал смерть Анны Михайловны и, как всегда в подобных случаях, оказался не на высоте. Я запил в день ее кончины и пил беспробудно три дня, втянув в тризну жену, тещу и всех посетителей дома. Анну Михайловну никто из них не знал и боль потери испытывать не мог. Жена и теща по русской традиции ненавидели ее почти так же пламенно, как Дашу. У меня дома на письменном столе стояла фотография семнадцатилетней Даши, жена уничтожила ее, за что понесла суровое наказание. Оклемавшись, она ликвидировала, непонятно как доискавшись, то произведение, посвященное Даше, которое я читал у Киры. Но, обладая в молодости отличной памятью, я его почти дословно восстановил. В ту пору у меня была не только хорошая память, но и выдающееся красноречие — под высоким градусом, слабые следы которого сохранились по сию пору. Замечательный, хотя и не постоянный ораторский дар слабел во мне по мере снижения того градуса, который я способен выдержать. Тогда я не уступал Демосфену и управлял пьяной оравой, как Цицерон сенатом. Я так распинался об Анне Михайловне, что и жена, и теща, и все собутыльники плакали навзрыд. Я говорил о великих греках, которых она унесла с собой в могилу, и требовательно спрашивал свою цветущую тещу, какую литературу захватит она в последний путь. С заплаканными глазами теща, отнюдь не книголюб, обещала взять с собой томик Марселя Прево и загадочную «Трагедию Сиканэ». Последнее произведение никому не было известно, и я долго и ярко стыдил тещу за некультурность. «Анна Михайловна ушла с Платоном и Аристотелем, — витийствовал я, — а вы намерены оскорбить небо французским пошляком и какой-то чушью собачьей!» Теща, рыдая, отстаивала достоинства Марселя Прево, а «Трагедию Сиканэ» обещала заменить рекомендованной мною литературой. Нашему чудовищному пьянству помогало отсутствие тестя, находившегося в санатории. На третий день пьянства ни водка, ни коньяк, ни вино не лезли в опаленное горло, и мы затеяли варить глинтвейн из красного «Напареули» с сахаром, апельсинами, мандаринами, яблоками, с корицей и гвоздикой. Всю ночь мы поминали Анну Михайловну горячим пряным напитком, а утром блевали над унитазами, умывальниками, раковинами двух квартир. Я не мог подняться, и жена, шатаясь и падая, принесла большой таз к постели. С темно-красной жидкостью выходили целые дольки мандаринов, апельсинов и куски яблок. Осмрадненный дух корицы и гвоздики пропитал воздух. Надышавшись сладко-пряной вони, начала блевать моя маленькая падчерица — вот уж воистину в чужом пиру похмелье.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
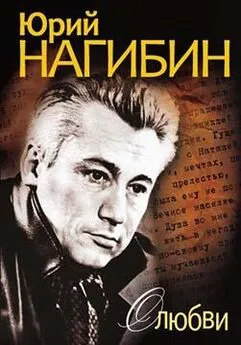
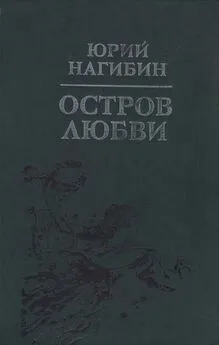
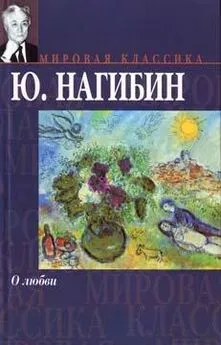
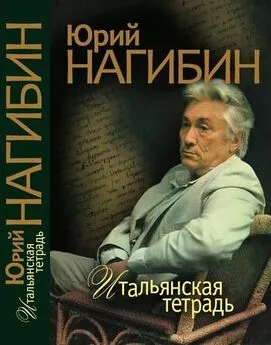
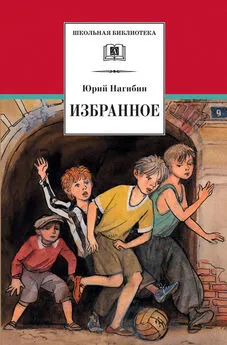
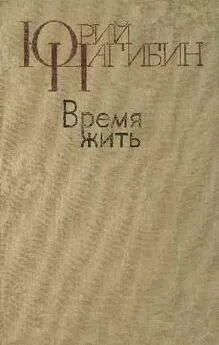
![Юрий Нагибин - Вместо предисловия [к сборнику «Время жить»]](/books/522135/yurij-nagibin-vmesto-predisloviya-k-sborniku-vremya.webp)

![Юрий Нагибин - Непобедимый Арсенов [сборник]](/books/1078047/yurij-nagibin-nepobedimyj-arsenov-sbornik.webp)