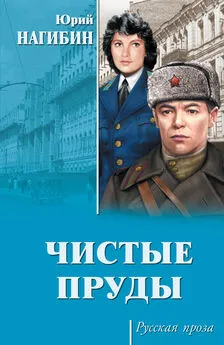Юрий Нагибин - О любви (сборник)
- Название:О любви (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:РИПОЛ классик
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-386-02031-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Нагибин - О любви (сборник) краткое содержание
В этой книге — лучшие произведения Юрия Нагибина о любви, написанные за тридцать лет. Он признавался, что лист бумаги для него — это «порыв к отдушине», когда не хватало воздуха, он выплескивал переживания на страницы. В искренности и исповедальности — сила его прозы. Скандальная повесть «Моя золотая теща» — остросоциальная картина разнузданных нравов верхушки советского сталинского общества, пуританских лишь декларативно. Повесть «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя» — о первой любви, о запретных, фатальных страстях, и на закате жизни — трагическая история синего лягушонка, тоскующего после смерти о своей возлюбленной. За эротизм, интимность, за откровенность «потаенных» тем его называли «русским Генри Миллером», критики осуждали, ломали копья, но единогласно называли его произведения шедеврами.
О любви (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я устал. Вечное насилие над собой не проходит даром. Душа во мне устала. Я все время понуждаю ее жить в негодном для нее режиме. Жена была по-своему права, когда говорила: «Ну, чего ты мучаешься? Почти все так живут». Она не поскупилась на примеры. Я и не думал, что дела наших знакомых так запутаны. Но ничего — живут. А у меня не получается. Мне надо было бы принадлежать к меньшинству, которое так не живет. Я не обрел свободы равнодушия. Я не могу разучиться видеть в своей жене чистопрудную девчонку с ошалело влюбленным лицом. Она любила меня тогда куда смелее и беззаветнее, нежели я ее. Я был оглушен войной, пустотой вымершей за войну квартиры, внезапным одиночеством, непроглядью будущего, а она любила очертя голову, изо всех полудетских сил. Это я медленно врабатывался в любовь к ней. Но вработался — и пропал. Потом, когда она стала исчезать из дома и возвращаться все позже и позже, я заставлял себя не замечать размазанного мятого рта, неопрятно поплывших глаз, беспорядка в одежде, запаха вина или коньяка и запаха папиросного дыма, запутавшегося в волосах. Я спрашивал: «Где ты была?», давая ей возможность оправдаться, хотя бы соврать убедительно, спасти вид достоинства в нашей уже неприличной жизни. Я думал, что удерживаю ее этим от какого-то последнего падения. Надеялся победить ее терпением, выдержкой, верой в ее несуществующую честность. Она первая не вынесла этой добавочной лжи. Я открыл ей дверь часов в пять утра. Была зима, и с лестницы мне под халат по голым ногам ударило мозжащим холодом, так и оставшимся во мне навсегда. «Ну, где я была?» — проговорила она хрипло, почти грозно и впервые поглядела на меня с ненавистью. Видно, я до смерти надоел ей со своей игрой в неведение и доверие. Я замолчал, перестал спрашивать и больше не видел ненависти в ее глазах, лишь снисходительное презрение, порой даже что-то вроде сочувствия, жалостливого понимания.
Она приходила к Гущину ночью изредка и всегда нетрезвая. Он понимал, что не любовь толкает ее к нему, а какое-то женское поражение, неутоленность, и, стыдясь, проклиная себя за слабость, брал бедное наслаждение от женщины, которую некогда любил единственной любовью, а сейчас почти боялся. Человек никогда не бывает окончательно несчастен, всегда остается допуск. Самое страшное пришло, когда подросла дочь. Он и терпел свою жизнь из-за дочери. Она любила его с тем оттенком ревнивого обожания, какое часто привносят девочки в любовь к еще молодому, привлекательному и незаласканному в домашней жизни отцу. Но девочка выросла, проникла в суть стыдных семейных тайн и с юной беспощадностью решительно стала на сторону матери, воздвигнув между собой и отцом глухую стену высокомерного небрежения. Жена поступала с ним жестоко, но была не злым человеком. У дочери, когда он делал робкие попытки проникнуть за стену, глаза становились маленькими и ненавидящими. Казалось, она не может простить отцу его унижения, слабости, смирения. Она не любила матери, но взяла ее за образец, выиграв для себя независимость, бесконтрольность, требовательность без всякой отдачи…
— Нет, — сказал Гущин. — Вы ошибаетесь, это не Деламот, а Кваренги.
Они перешли мост и сейчас стояли на краю Марсова поля, возле памятника Суворову, и Наташа, взявшая на себя роль гида, ошибочно приписала Валлен-Деламоту высокий, тускло-зеленый и довольно заурядный дом, построенный молодым Кваренги.
Наташа заспорила с обостренным самолюбием ленинградки, пойманной на незнании своего города.
— Зачем вы спорите? — сказал Гущин. — На доме есть мемориальная доска со стороны площади. Там ясно сказано, что дом построен Кваренги. Хотите сами убедиться?
Но попасть к дому с их угла оказалось не так-то просто — переход улицы напрямик был запрещен, и пришлось бы сделать порядочный крюк. В расчете на это Наташа продолжала сердито отстаивать авторство Деламота.
— Хотите, я назову вам все известные постройки Кваренги и Деламота, как сохранившиеся, так и сгоревшие, снесенные, уничтоженные временем или перестроенные до неузнаваемости? — И Гущин тут же отпулеметил несколько десятков названий, не скупясь на адреса как существующих, так и умерших зданий.
— Можно не переходить улицу, — ошеломленно сказала Наташа. — Ничего не понимаю. Эти познания распространяются и на других архитекторов или у вас узкая специальность: Кваренги — Деламот?
— На всех, кто строил Петербург, — не без гордости отозвался Гущин, — будь то Квасов или Руска, Растрелли или Росси, Фельтен или Соколов, но Кваренги мой любимый зодчий.
— Почему? Разве он лучше Воронихина или Росси?
— Я же не говорю, что он лучше. Просто я его больше люблю.
— Так кто же вы такой? Катапультист, архитектор, искусствовед, гид или автор путеводителя по Ленинграду?
— Катапультист, — улыбнулся Гущин. — Вы можете проверить на студии.
— А при чем тут Кваренги и все прочее? Ведь вы даже не ленинградец!
— Порой человеку нужно убежище, где бы его оставили в покое. Люди даже придумали препаршивое слово для обозначения этого спасительного бегства души: хобби. Так вот, старый Петербург — мое хобби. Тьфу, скажешь — и будто струп на языке!..
И впрямь, какое это счастье — открыть маленький, в красном сафьяновом переплете томик и рассматривать четкие и строгие фотографии на плотной, шелковистой, с благородной прижелтью бумаге: антаблемент, сохранившийся от Елизаветинского века в неприметном особнячке на Каменном острове, портик Кваренгиевой простоты и благородства, уцелевший в глубине отнюдь не живописного складского двора на Литейном, дивно-нетронутую решетку неузнаваемо перестроенной городской усадьбы на Фонтанке, — рассматривать все это и отыскивать в памяти уголок города, приютивший тот или иной останок, вспоминать пейзаж места: окрестные камни и деревья, воображать, как все это выглядело встарь. Перестаешь замечать, что ты опять один в квартире, и уже не помнишь, почему ты один, на душе задумчиво и светло — камень старинных зданий куда мягче и теплее камня ожесточившихся в эгоизме человеческих сердец. Но самую большую радость, не радость даже, а высокое отдохновение, торжественный покой доставляет Джакомо Кваренги, тучный, безобразный карлик с разляпанным носом — творец высшей гармонии. Пусть другие мощнее, пышнее, богаче фантазией, вдохновением — целомудренная простота, художническая щепетильность Кваренги наделяют все им созданное несравненным благородством и завершенностью. Кваренги мыслил объемами, а не украшал плоскость. Тени и свет на простом до вызова фасаде бывшей Академии наук одаряют душу странным чувством гордости. Начинаешь верить, что человека нельзя унизить, пока он ощущает свою причастность к мировому духу. Ты с Кваренги и грустным Аргуновым, с торжественным Чевакинским и всевластным Росси против больших и малых бед жизни, против ночи, неуклонно бросающей тебя в одиночество, против опустошенности и скорби.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
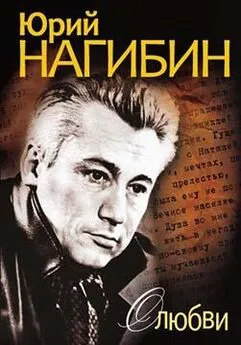
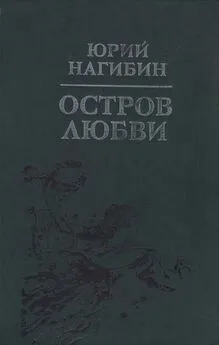
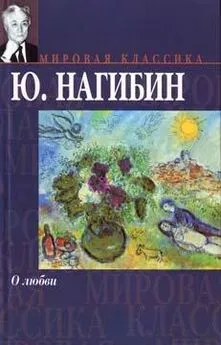
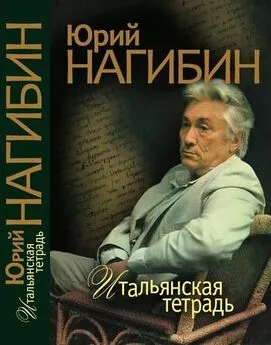
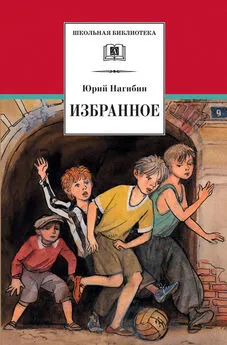
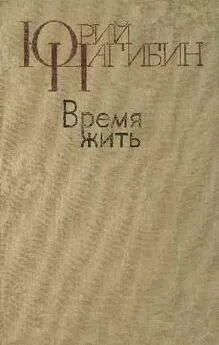
![Юрий Нагибин - Вместо предисловия [к сборнику «Время жить»]](/books/522135/yurij-nagibin-vmesto-predisloviya-k-sborniku-vremya.webp)

![Юрий Нагибин - Непобедимый Арсенов [сборник]](/books/1078047/yurij-nagibin-nepobedimyj-arsenov-sbornik.webp)