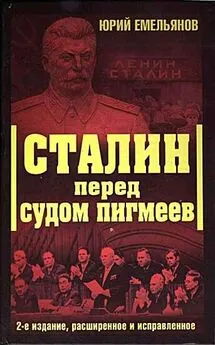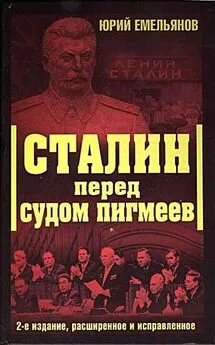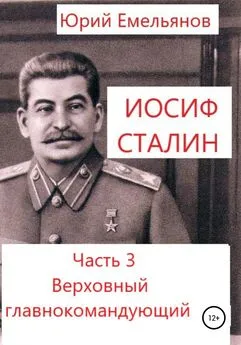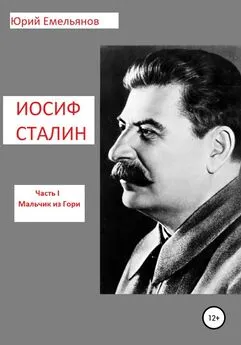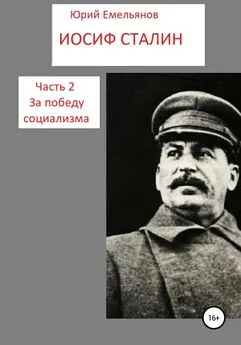Юрий Емельянов - Сталин. Путь к власти
- Название:Сталин. Путь к власти
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2003
- Город:М.
- ISBN:5-7838-1197-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Емельянов - Сталин. Путь к власти краткое содержание
В дилогии, состоящей из книг «Сталин: Путь к власти» и «Сталин: На вершине власти», известный российский историк Ю.В.Емельянов, автор книг о Бухарине, секретных протоколах 1939 г., на основе многочисленных документальных свидетельств и воспоминаний очевидцев разоблачает мифы о жизни и деятельности одного из самых выдающихся и противоречивых государственных деятелей XX века.
Какую роль в становлении Сталина сыграли его грузинское происхождение и учеба в семинарии? Был ли Сталин агентом царской охранки? Каким образом Сталин оказался в составе большевистского руководства? Проследив политическую эволюцию Сталина, автор предлагает убедительные объяснения причин, почему именно он возглавил страну в годы самых суровых испытаний за всю ее историю.
Сталин. Путь к власти - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Подчеркнуто мирный характер демонстрации, справедливость требований, которые выдвигают ее участники, способствуют тому, что люди, вышедшие на улицы, чтобы понаблюдать за процессией людей, начинают сочувствовать демонстрантам. В своей статье в газете «Брдзола»
И. Джугашвили отмечал огромные агитационные возможности уличной демонстрации для воздействия на тех, кто еще не был вовлечен в деятельность подпольных революционных кружков: «В любопытстве народа скрывается главная опасность для власти: сегодняшний «любопытствующий» завтра как демонстрант соберет вокруг себя новые группы «любопытствующих». А такие «любопытствующие» сегодня в каждом крупном городе насчитываются десятками тысяч… «Любопытствующие» видят, что демонстранты собрались высказать свои желания и требования».
В то же время даже пассивное участие в выступлении против властей немедленно могло поставить «любопытствующих» в конфронтацию с правящим строем. Джугашвили писал: «Любопытствующий» не бежит от свиста нагаек, а наоборот, подходит ближе, а нагайка уже не может разобрать, где кончается простой «любопытствующий» и где начинается «бунтовщик». Теперь нагайка, соблюдая «полное демократическое равенство», не различая пола, возраста и даже сословия, разгуливает по спинам и тех и других». С точки зрения организаторов выступления, «неразборчивость» нагайки была благом. «Этим нагайка оказывает нам большую услугу, ускоряя революционизирование «любопытствующего». Из оружия успокоения она становится оружием пробуждения», – писал Джугашвили.
Более того, организаторы выступления понимали, что демонстранты и даже случайные «любопытствующие» могут лишиться свободы и даже жизни во время разгона уличного шествия. И. Джугашвили писал: «Пусть уличные демонстрации не дают нам прямых результатов, пусть сила демонстрантов сегодня еще очень слаба для того, чтобы этой силой вынудить власть немедленно же пойти на уступки народным требованиям, – жертвы, приносимые нами сегодня в уличных демонстрациях, сторицей будут возмещены нам. Каждый павший в борьбе или вырванный из нашего лагеря борец подымает сотни новых борцов. Мы пока еще не раз будем биты на улице, еще не раз выйдет правительство победителем из уличных боев. Но это будет «пиррова победа». Еще несколько таких побед – и поражение абсолютизма неминуемо. Сегодняшней победой он готовит себе поражение».
В условиях отсутствия конституции и политических свобод деятельность всех партий, а тем более их уличные выступления были незаконными. Социал-демократ Васильев писал в 1906 году, что «борьба классов и групп не только уместна, но и необходима» лишь после установления конституционной власти. До этого же времени «она убийственна и преступна». Хотя эта статья вызвала осуждение многих членов партии, в том числе и Сталина, на самом деле такая оценка отвечала реальному положению вещей при самодержавном строе. Поскольку деятельность любого революционера, в том числе и социал-демократа, вступала в противоречие с законом, она была «преступна». Поскольку же она приводила к конфронтации с властями, готовыми применить крайние меры, то такая борьба была «убийственна». В начале 1902 года революционеры исходили из того, что время революции, в ходе которой будет установлена конституционная власть, еще не настало. Однако они рассматривали уличные шествия как прелюдию к революции и были готовы принести себя добровольно в жертву во имя начала революции. В то же время революционеры всех времен и народов всегда стремились втянуть в подготовку к революции как можно больше людей и таким образом принести и их в жертву. Готовность принять самому мученический венец, вероятно, соответствовала сложившимся еще в духовных училищах представлениям Сталина о необходимости пострадать за правое дело. Как и всякий революционер, он считал, что и другие участники движения протеста должны рано или поздно прийти к осознанию такой необходимости.
Однако говорить о том, что такие взгляды были характерны лишь для революционеров или тем более только для Сталина и его единомышленников, было бы неверно. В обществе, находившемся в состоянии предреволюционного брожения, бунтарские настроения постепенно охватывали различные слои населения России. В начале XX века подавляющая часть российской интеллигенции решительно осуждала власти за жестокость, сочувствовала революционерам и жертвам полицейских репрессий.
Видимо, в Батуми такие настроения охватили многих участников забастовки. После ареста ряда из них было принято решение идти к тюрьме, в которой находились задержанные рабочие, и потребовать их освободить или посадить забастовщиков вместе с их товарищами. Предполагалось, что власти растеряются перед напором желающих попасть в тюрьму, и это обстоятельство поможет освободить заключенных. Если бы произошло так, как было задумано, то власти показали бы свою неспособность контролировать ситуацию. Однако власти не растерялись и с готовностью стали хватать участников демонстрации. Скоро в батумской тюрьме оказалось более 400 демонстрантов.
Это не остановило организаторов забастовки. На следующий день они устроили еще более массовую демонстрацию. Действительно ли Джугашвили и его товарищи считали, что на сей раз тюремные власти сдадутся перед напором рабочей массы, или же данное выступление должно было стать мощной агитационной акцией и «жертвенным актом» во имя грядущей революции? Ясно, что батумская тюрьма не была для России Николая II тем, чем была парижская Бастилия для Франции Людовика XVI. Также ясно, что до начала революции было не несколько часов, как в канун событий 14 июля 1789 года, а почти три года. Как свидетельствует история, подобная тактика приносит плоды, когда власти теряют инициативу, а ситуация выходит из-под их контроля. В таких случаях правительственные войска не решаются поднять оружие против народа, и демонстранты оказываются победителями. Однако в 1902 году, как, впрочем, и на протяжении последовавшей революции 1905—1907 годов, практически все звенья самодержавной власти были прочны, а власть имущие были преисполнены решимости беспощадно расправляться с бунтарями. Поэтому демонстрация была обречена на поражение.
9 марта 1902 года трехтысячная демонстрация невооруженных рабочих подошла под красными знаменами к воротам тюрьмы. Начальник тюремной охраны потребовал, чтобы толпа разошлась. Однако демонстранты сделали ту же ошибку, которую позже совершили участники шествия к Зимнему дворцу 9 января 1905 года, и отказались выполнить приказ. Более того, из толпы полетели камни в солдат. Раздались крики: «Бей их! Хватай их винтовки! Они не посмеют стрелять!» Как и через три года в Петербурге, войска, окружавшие батумскую тюрьму, стали стрелять в толпу. 14 человек были убиты, 54 – ранены. По сведениям полиции, Джугашвили был среди демонстрантов. Он вывел из толпы раненого рабочего Геронтия Каландадзе и доставил его на квартиру.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: