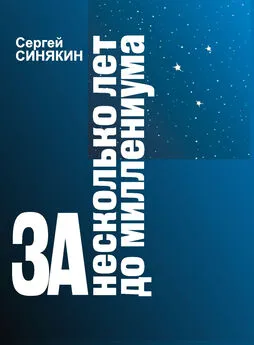Сергей Синякин - За несколько лет до миллениума [сборник]
- Название:За несколько лет до миллениума [сборник]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издатель
- Год:2012
- Город:Волгоград
- ISBN:978-5-9233-0914-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Синякин - За несколько лет до миллениума [сборник] краткое содержание
Книга адресована широкому кругу читателей.
За несколько лет до миллениума [сборник] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но все-таки значительно чаще меня влекло в будущее. Надо сказать, что шестидесятые к этому очень располагали. Прошел спор физиков и лириков. О нем теперь мало кто помнит. Физики на полном серьезе утверждали, что наступило время рациональности и расчета, лирика в современном мире ничего не значит, и они прекрасно обойдутся без стихов, без щебетания птиц и рассветов, без этого ненужного слюнтяйства, которое называют нежностью души. Лирики утверждали обратное. Кто был прав в спорах, не стоит и говорить. Зря, что ли, физиков потянуло в горы, в тайгу, в знойные пустыни и на ледяные реки? Единения с природой захотелось. А это уже чистая лирика. Был молодой Евтушенко, был молодой Вознесенский. Это сейчас они заматерели и запенклубились, из блистательных заграниц не вылезают. А тогда были нормальные ребята. И стихи писали отличные. Был в них пушкинский полет души.
А еще началось стремительное покорение космоса. После Быковского, Николаева и Терешковой с Поповичем стало казаться, что до Луны уже рукой подать. Подумаешь, четыреста тысяч километров! И сомнений не было, что первыми там будут наши. Кому же еще?
Вот говорят, что советская фантастика беднее англо-американской. Это как посмотреть. Буйству живых форм на Венере в романе Беляева «Прыжок в ничто» мог бы позавидовать и Степлтон. Но, положа руку на сердце, в каком мире хотелось бы жить? В мире «Торговцев космосом» или в мире «Внуки наших внуков»? В мире «Марсианских хроник» Бредбери или в мире Светлого Полудня братьев Стругацких? То-то и оно, мир советской фантастики был всегда добрее и светлее, он чаще говорил о перспективах и реже о негативных вариантах. Впрочем, и в негативе всегда оставалась какая-то надежда. Нам всем был близок мир «Понедельника…», который, как известно, «начинается в субботу» — именно потому, что на интересную работу хочется не только бежать, с нее уходить не хочется! А у американцев шла бесконечная война, были нескончаемые фронтиры, они ведь и сами были покорителями, эти первые переселенцы в Новый мир.
Хотелось гулять по векам, как в «Спирали времени» Г. Мартынова. Я путешествовал по Марсу и Венере, я плавал в кольцах Сатурна, меня плющило в водородных безднах Юпитера, меня колбасило в Поясе астероидов, я ловил кайф на планете Видящих Суть Вещей, и это было тем более странно, что совсем рядом с этой планетой располагалась другая, на которой строили свое коммунистическое общество чернокожие каллистяне.
Много позже я понял, что коммунизм — это не общественный строй. Это состояние души, которой нужен весь мир и которая живет ради этого мира. Коммунистов в мире много, они даже не подозревают, что они коммунисты. А все потому, что однажды спутали состояние души с бесклассовым обществом. Попытки построить такое справедливое общество будут всегда. Это как изобретение самолета — если изобрели, на нем обязательно попытаются полететь. Сначала он ткнется носом в васильковое поле. Потом продержится в воздухе первые десять секунд, потом пролетит небольшое расстояние, чтобы уткнуться носом в подножье холма, а потом он все-таки полетит, полетит как миленький. Последняя попытка летать была самой удачной, хоть и трагичной. Но ведь на этом ничего не заканчивается. Трудно преодолеть человеческую косность и эгоцентричность, трудно преодолеть корысть и жадность, довлеющую над человеком, но ведь из серого кокона всегда вырастает прекрасная бабочка. Жаль только, что я этого не увижу. Впрочем, почему же? Разные модели светлого будущего я видел, путешествуя в своем воображении по чужим мирам.
Солнечная система Г. Гуревича была выстроена нудно, но поражала воображение космическим строительством, для которого использовались планеты системы. Вообще-то это было сродни изменению течения сибирских рек. Гуревич живописал свое строительство, нимало не задумываясь, что произойдет, если природное равновесие будет нарушено в космических масштабах. И еще у него была идея ратоматоров, которые позволили бы из атомов воссоздать любую структуру, включая человека. Но ведь это означало бы полнейший переворот в психологии и философии людей! А такого переворота в утопии заметно не было.
Люди будущего из утопии Сафроновых «Внуки наших внуков» выглядели ходячей иллюстрацией к спору физиков и лириков, они были по уши в науке, по горло в открытиях, на простые человеческие чувства у них просто не оставалось времени.
Более мелкие произведения, вроде «Веточкины путешествуют в будущее» или детские повести В. Мелентьева, носили иллюстративный характер, причем иллюстрировали они положения насквозь фантастических программ партии и расхожих представлений о счастье.
На этом фоне мир Полудня братьев Стругацких смотрелся выигрышно. В нем жили люди, которых мне хотелось назвать друзьями, среди которых хотелось жить и работать. С каждым произведением этот мир углублялся, обретал рельефность и мускулатуру, в нем появлялись проблемы, которые хотелось решать.
Удивительно ли, что я выбрал его в качестве своего идеала? Да не я один, многие любители фантастики и просто читатели были влюблены в этот удивительно светлый мир. Но путешествия заканчиваются с последней страницей. На Земле меня ожидало нечто иное.
Второй километр и все, все, все
Второй километр состоял из частных домов и ведомственных флигелей. Был один трехэтажный кирпичный дом на двадцать квартир и еще парочка двухэтажных, но основу его составляли все-таки дворы, в которых росли абрикосы. Когда они цвели по весне, кривые улицы плыли в бело-розовом дыму.
Второй километр. Родина шпаны и романтиков. Над цветущими абрикосами рвался хриплый пронзительный голос:
Мерцал закат, как сталь клинка,
Свою добычу смерть считала.
Бой будет завтра, а пока
Взвод зарывался в облака
И уходил по перевалу.
Обычно мы собирались в сарае у Петьки Жукова. Там с ходу, вживую сочинялись первые фантастические истории. Скорее их надо было бы отнести к жесткому хоррору, но тогда подобных делений просто не было. Несколько вечеров рассказывалось о корабле живых мертвецов, а когда эта история подошла к концу, появилась новая — о бункере упырей на Мамаевом кургане. На слушателей истории действовали — иногда кто-нибудь уныло говорил: «Давайте о чем-нибудь веселеньком. Мне домой у оврага идти…»
Неподалеку от Петьки Жукова в таком же типовом флигеле жил Трумэн. Нет, не президент, но ранее судимый, получивший кличку в честь американского президента. За что он ее удостоился, мне неведомо. Может, за разговоры о политике. Может, за любовь к оружию — время от времени милиция проводила у Трумэна обыски и всегда уходила с добычей — немецкими гранатами с длинными ручками, автоматом ППШ или шмайссер, пистолетами разных марок, на худой конец с пригоршнями желтых маслянистых патронов. Через некоторое время у него появлялось что-то новое. За незаконное хранение оружия Трумэна не сажали, у него была справка из дурдома, которая делала его неуязвимым и неподотчетным обществу. Порой мы забегали к Трумэну послушать лихие зэковские истории, которые теперь мне кажутся унылыми и скучными. Еще у него можно было выпить самогона, покурить планчика, одновременно учась правильно забивать косяк в «беломорину». Было, братцы, было! Слова из песни не выкинешь!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Сергей Синякин - За несколько лет до миллениума [сборник]](/books/1065058/sergej-sinyakin-za-neskolko-let-do-milleniuma-sbo.webp)
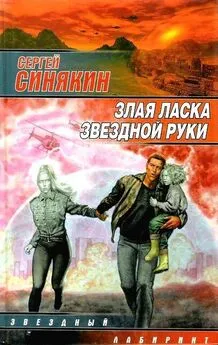
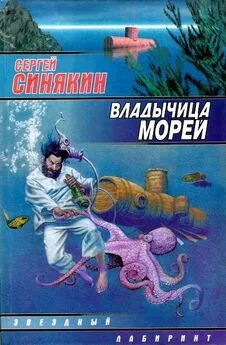
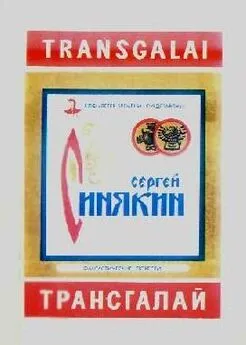
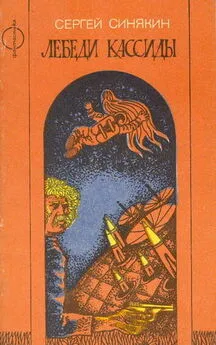
![Сергей Синякин - Марсианская роза [сборник]](/books/1064686/sergej-sinyakin-marsianskaya-roza-sbornik.webp)
![Сергей Синякин - Горькая соль войны [сборник]](/books/1065040/sergej-sinyakin-gorkaya-sol-vojny-sbornik.webp)
![Сергей Синякин - Книга о странных вещах [сборник]](/books/1065057/sergej-sinyakin-kniga-o-strannyh-vechah-sbornik.webp)
![Сергей Синякин - Ветеран Армагеддона [сборник]](/books/1065424/sergej-sinyakin-veteran-armageddona-sbornik.webp)
![Сергей Синякин - Мрак тени смертной [сборник повестей]](/books/1068386/sergej-sinyakin-mrak-teni-smertnoj-sbornik-poveste.webp)