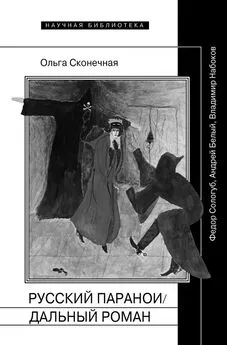Ольга Сконечная - Русский параноидальный роман. Федор Сологуб, Андрей Белый, Владимир Набоков
- Название:Русский параноидальный роман. Федор Сологуб, Андрей Белый, Владимир Набоков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «НЛО»
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0418-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Сконечная - Русский параноидальный роман. Федор Сологуб, Андрей Белый, Владимир Набоков краткое содержание
В оформлении обложки использованы иллюстрации А. Белого к роману «Петербург». 1910. ГЛМ.
Русский параноидальный роман. Федор Сологуб, Андрей Белый, Владимир Набоков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Повествование словно вновь пыталось возвести границы утраченной автономности: границы личности, границы мира субъекта и объекта, мира вымысла и т. д. Иными словами – становилось чем-то вроде насильственной, навязываемой традиции и чувством самосохранения художника, целостностью, которую постмодернизм (в первую очередь, Делез и Гваттари) назвал параноидальностью. Эта компенсаторная, сдерживающая бессознательный поток целостность произвела характерные искажения. Все добротные, классические романные коды: семейный, любовный, матримониальный, общественный – превратились в ней в единый код демонической конспирологии. Так – всякая интрига с ее необходимым узлом, союзом и конфликтом: семейная интрига «Петербурга» и «Москвы», любовная интрига Аблеухова или Дарьяльского («Серебряный голубь»), общественная деятельность Логина и карьерная суета Передонова, как и его женитьба, – все эти линии затянуты в сюжетную воронку заговора, который предстает их подлинным наполнением и обоснованием. К инстанции демонического заговора и его носителей тяготеют все социальные институты, изображаемые в классическом повествовании и неожиданно сделавшиеся страшными и бессмысленными: отцовский дом, брак, воспитательное учреждение, общественный союз.
Иными словами, жесткий конспирологический код помогал, в известном компенсаторном смысле, упорядочить или рационализировать открывшийся литературе бессознательный поток, который более не вписывался в старые сюжеты. И более всего он был призван сохранить главную, надстоящую инстанцию текста – автора. Ведь именно в рамках этого кода задается вопрос об отсутствующем «Отце», вопрос, звучащий во всех параноидальных романах: кто стоит за всем этим? Конспирологический код навязывал автора как верховного заговорщика, плетущего интригу текста, и как контрзаговорщика, разоблачающего маневры творимой его же бессознательной волей действительности.
Этот автор, будучи как бы насильственно поставлен традицией над романным миром, должен подчеркнуть свою власть как силу Рока. Его присутствие обнаруживается в стихиях природы и города и, одновременно, в том самом «некто» или «кто-то», составляющем другое «я» протагониста. В этой роли автор делается держателем неведомого герою и скрытого в нем содержания.
Роль другого «я» как авторской инстанции выслеживания и провокации выставлена напоказ в «Петербурге», где повествователь, «предаваясь естественному сыску», надевает на себя маску агента охранного отделения и сопровождает свой объект наподобие того, как сенатор преследуем «незнакомцем». Но «незнакомец» – воплощение бессознательных страхов сенатора, и, значит, авторский «агент» есть также влачащийся за сенатором фантомный преследователь.
Наряду с этими откровенными манифестациями автор прибегает к различным способам обнаружения себя в качестве владеющего тем, что не осознается героем и угрожает ему, являясь извне. Это, с одной стороны, – сфера культурных аллюзий, знакомых персонажу, но не узнанных им, с другой, – хитрости сюжетосложения, предполагающие уловление его в сети собственных неверных толкований. В качестве тайного соглядатая, регистратора ошибок, творца исходящей из них интриги автор преследует свое создание, возглавляя заговор мира против него.
Но демонстративно устанавливаемая власть одновременно является зыбкой и ненадежной, как и сама дистанция между автором и героем, автором и романной реальностью, не законченной более в своей фикциональности.
Будучи очень условно отделен от собственного претворенного в роман подполья, символистский художник ощущает себя мишенью тайных и угрожающих ему под масками романной действительности сил, которые он, вместе с протагонистом, пытается разоблачить как заговор Зла. Более того, он чувствует себя преследуемым, одержимым самим текстом в его завершенной литературной ипостаси, что подтверждается прямыми биографическими свидельствами писателей, сетующих на невозможность отделиться от своих творений, посягающих на их идентичность, «взрывающих» (по Белому) их субъективную целостность.
Постструктуралисты в такой ситуации говорят о конфликте языковых кодов, один из которых принадлежит классическому повествованию, с его Отцовской инстанцией первопричины (Бога, среды, наследственности) в том смысле, который придается ей Ж. Делезом или Р. Бартом, а другой – новый модернистский код, ставящий под сомнение фигуру Отцовства, запечатлевающий сам процесс миротворения или означивания и угрожающий иерархической целостности текста. «Если Отец мертв, то какой смысл в рассказывании всяких историй? Разве любое повествование не сводится к истории об Эдипе? Разве рассказывать не значит пытаться узнать о собственном происхождении, поведать о своих распрях с Законом, погрузиться в диалектику нежности и ненависти? Ныне угроза нависла не только над Эдипом, но и над самим повествованием…» [596]
Параноидальность в этом аспекте предстает болезненной реакцией повествовательной формы на опасность ее устранения, растворения рациональной упорядоченности «произведения» (в бартовской терминологии) в самочинном, оторванном от какой-либо основы или почвы «шизофреническом» (по Делезу и Гватари) «письме», чреватом исчезновением литературы, в письме как «контртеологической, революционной в основе своей деятельности, так как не останавливать течение смысла – значит, в конечном счете, отвергнуть самого бога и все его ипостаси – рациональный порядок, науку, закон» [597].
Глава 5
После конца света: Набоков
Постсимволистская поэтика
Набоков – один из воспреемников трудного наследства русского символизма. Как подлинный гений, он обошелся с этим наследством по-своему, переиграв ходы «отцов» на иной лад [598].
Тема искусства-власти соединяет и разделяет Набокова с символистами. Наследник восстанавливает подорванную «родителями» незыблемость авторской дистанции, но не отменяет присутствия автора в тексте, хотя, в отличие от Белого, это присутствие тайное, осуществляемое в знаках и намеках, которые могут быть опознаны, но чаще всего остаются невнятны набоковским персонажам.
Иной в сравнении с символистами предстала у Набокова художественная космогония. В отличие от предшественников он обожествлял человеческое: силу чувственного восприятия, магию воображения. Предельное обострение чувственного дара, а не преодоление его в пользу метафизического опыта, волшебная комбинаторика фантазии, а не теургическое действо. Творение эстетического бытия, соперничающего в своих деталях и красках с физическим мирозданием, но пребывающего в измерении вечной, внесоциальной, внеисторической гармонии. Вместе с Набоковым искусство возвращается в свои берега: «дионисийское вино», как сказал бы Л. Пумпянский, перебродило [599]. Мир, сотворенный гением, совершенен и вечен в силу его отделенности от «так называемой реальности». Новый аполлонический творец [600]говорит, что искусство – только «божественная игра» [601], ее гений – «антропоморфное божество» [602], по капризу и прихоти созидающее и разрушающее мир своих игрушек. В своем уединенном высокомерии и даже эстетическом самолюбовании этот гений куда скромнее символистского «я», с его христоподобием или сатанизмом. При этом он защищен от бурь, что бушуют в послушном ему творении.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: