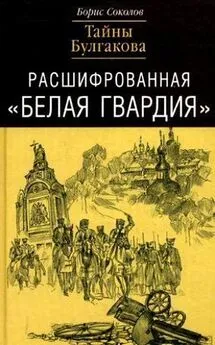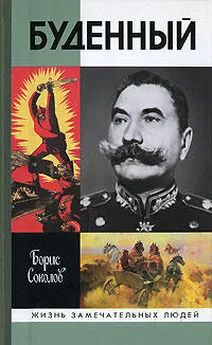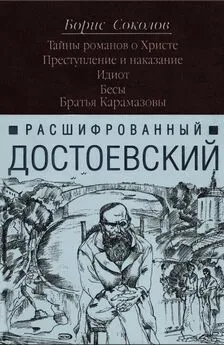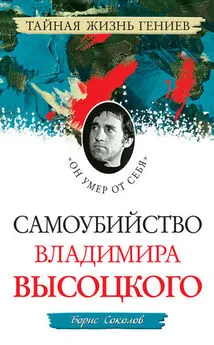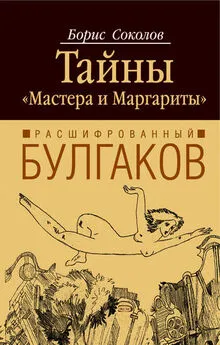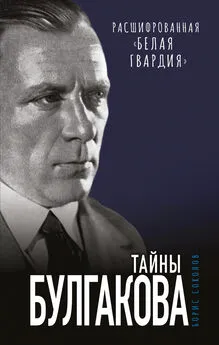Борис Вадимович Соколов - Расшифрованная «Белая Гвардия». Тайны Булгакова
- Название:Расшифрованная «Белая Гвардия». Тайны Булгакова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Яуза»
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-45589-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Вадимович Соколов - Расшифрованная «Белая Гвардия». Тайны Булгакова краткое содержание
Расшифрованная «Белая Гвардия». Тайны Булгакова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Между прочим, из этой дневниковой записи можно сделать вывод о том, что Сынгаевский успел повоевать и получить офицерский чин. А то, что он кончил юнкерское училище в 1916 году и сделал это, скорее всего, после университета (последующая успешная коммерческая деятельность выдает в нем неплохое образование), позволяет предположить, что они с Булгаковым были примерно одного возраста. Кстати сказать, Сынгаевский вполне мог быть выпущен из училища подпоручиком, а в дальнейшем, уже при Временном правительстве, когда чины раздавались довольно обильно, его могли произвести и в поручики, как и Мышлаевского.
Бронислава Нижинская в 1919 году открыла балетную «Школу движения» в Киеве, которую посещал Сынгаевский, и между ними завязался роман. К тому времени балерина рассталась со своим первым мужем – танцовщиком Александром Кочетовским, от которого у нее было двое детей. Сын Лев погиб в автомобильной аварии, а дочь Ирина пошла по стопам матери и тоже стала известной балериной. Она действительно уехала из Киева в 1920 году и в следующем году стала главным хореографом труппы Сергея Дягилева в Париже. Причем для того чтобы Нижинской и ее матери разрешили эмигрировать из Киева, потребовалась, по свидетельству жены Вацлава Нижинского Ромолы Нижинской, петиция к Ленину, подписанная лечащими врачами Вацлава, больного тяжелой формой шизофрении. В этой петиции эмиграция Брониславы и ее матери обосновывалась необходимостью ухода за сыном и братом. Вероятно, Булгаков знал об этой истории, и она могла подтолкнуть его к тому, чтобы поэту Ивану Бездомному в «Мастере и Маргарите» был поставлен диагноз шизофрения. В разрешении на эмиграцию Брониславе Нижинской и ее родне было отказано. Но она вместе с Сынгаевским смогла прогастролировать во всех пограничных городах между Киевом и польской границей, а затем перейти границу, которая тогда была еще не на замке. Кстати сказать, первый контракт о работе танцовщиком у Сергея Дягилева Сынгаевский подписал в Париже еще 11 ноября 1920 года. До 1938 года Нижинская и Сынгаевский оставались в Европе, преимущественно во Франции. Сынгаевский танцевал партию Шаха в поставленном ею балете «Спящая принцесса».
В 1935 году Сынгаевский, управлявший автомобилем, попал в аварию вблизи Парижа, во время которой погиб его пасынок Лев, а он сам и падчерица Ирина были серьезно ранены. В 1938 году Нижинская с Сынгаевским эмигрировали в США, где основали новую балетную школу. Нижинская была также возлюбленной Федора Шаляпина, но никогда не была замужем за ним. Впрочем, роман с Сынгаевским, как кажется, был чисто платоническим. До самой смерти Николая, превратившегося в Америке в Nicolas Singaevsky в 1968 году в Лос-Анджелесе они с Брониславой были вместе. Николай был ее импресарио, а иной раз и переводчиком, так как по-английски она говорила не слишком бегло. Интересно, что прототипу Мышлаевского, в отличие от героя, который так и не стал Мышлаенко, фамилию все-таки пришлось сменить. Он стал Николя Сингаевски, или, если произносить на американский манер, Николасом Сингаевски. Возможно, Булгаков знал об этой перемене имени и обыграл ее в пьесе.
Бронислава пережила своего второго мужа на четыре года и скончалась в феврале 1972 года в Лос-Анджелесе. Были ли дети у Сынгаевского и Нижинской, неизвестно. К сожалению, мемуары Брониславы Нижинской, «Ранние воспоминания», доведены только до начала Первой мировой войны, т. е. обрываются задолго до ее знакомства с Сынгаевским.
Не исключено, что имя жены Сынгаевского – Бронислава подсказала Булгакову отчество одного из героев «Белой гвардии» – штабс-капитана Александра Брониславовича Студзинского. В романе он представлен чистым поляком, что подчеркивается многочисленными полонизмами в его речи. В пьесе же «Дни Турбиных» о польском происхождении Студзинского, произведенного здесь уже в штабс-капитаны, свидетельствуют в первую очередь фамилия и отчество. Хотя в одном из черновиков пьесы остался очень примечательный диалог между Студзинским, выправившим себе новые документы с новой украинской фамилией, чтобы уйти вместе с петлюровцами из Города, к которому приближаются красные, и Мышлаевским:
«Студзинский. Сейчас. (Достает бумагу. Мышлаевскому.) На.
Мышлаевский (читает). Так… гм… Борисович… Ты находишь, что это красивее, чем Брониславович?
Студзинский. Все у тебя шутки.
Мышлаевский. Да какие тут шутки! Дело совершенно серьезное. Студзенко… Черт знает, что за фамилия! Какой ты Студзенко, когда тебя акцент выдает? Когда с тобой заговоришь, так кажется, что кофе по-варшавски пьешь…»
На предложение Студзинского пойти вслед за петлюровцами штабс-капитан выдвигает аргумент, окрашенный явной булгаковской симпатией: «Так. Мерси. С обозами этой рвани… Мышлаенко… Нет, знаешь, я уж Мышлаевским останусь».
Однако подчеркивать польский акцент Студзинского в пьесе не было никакой нужды, так что от этого колоритного диалога Булгаков в конце концов отказался.
Что же касается Мышлаевского, то у него и в романе, и в пьесе польского – только фамилия. То же самое, вероятно, можно сказать и о Николае Николаевиче Сынгаевском, хотя в дальнейшем, женившись на польке, польский язык он, вероятно, выучил.
Интересно, что в реальной жизни к профессиональному искусству из прототипов героев «Белой гвардии» имел отношение только прототип Мышлаевского Николай Сынгаевский, который стал профессиональным балетным танцовщиком, причем сразу же после падения Скоропадского. А вот прототип Шервинского Юрий Гладыревский в опере никогда не пел и после падения Скоропадского продолжил службу у белых. Правда, в эмиграции ему, как кажется, пришлось иной раз использовать свой талант певца. Можно сказать, что Булгаков в какой-то мере наделил Шервинского судьбой Сынгаевского, тогда как основной прототип, Юрий Гладыревский, до конца честно сражался на стороне белых, вместе с ними эмигрировал, а в эмиграции никаким искусством не занимался. Подобно Мышлаевскому Сынгаевский, несомненно, обладал организаторскими и деловыми способностями, иначе не был бы многолетним успешным импресарио-менеджером у Брониславы Нижинской. Можно предположить, что придавая Мышлаевскому и Студзинскому черты опытных боевых офицеров, Булгаков использовал свой опыт общения с русскими офицерами на фронте Первой мировой войны в 1916 году, когда несколько месяцев работал в полевых госпиталях на Юго-Западном фронте, а также, в еще большей степени, свое знакомство с офицерами-белогвардейцами в период пребывания в составе Вооруженных сил Юга России на Северном Кавказе в конце 1919 – начале 1920 года.
Вероятно, значимы для Булгакова инфернальные черты у таких героев, как Мышлаевский, Шервинский и Тальберг. Последний не случайно похож на крысу (гетманская серо-голубая кокарда, щетки «черных подстриженных усов», «редко расставленные, но крупные и белые зубы», «желтенькие искорки» в глазах, – в «Днях Турбиных» он прямо сравнивается с этим малоприятным животным). Крыс, как известно, традиционно связывают с нечистой силой. Кому-то из них, а быть может, и всем троим, в последующих частях трилогии (а до закрытия журнала «Россия» в мае 1926 года Булгаков, видимо, надеялся продолжить роман) скорее всего предстояло служить в Красной Армии своего рода наемниками (кондотьерами), таким образом спасая свои шеи от красноармейского клинка или чекистской пули.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: