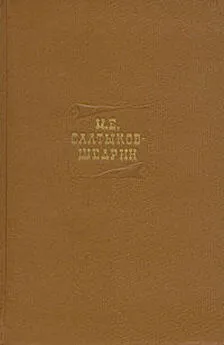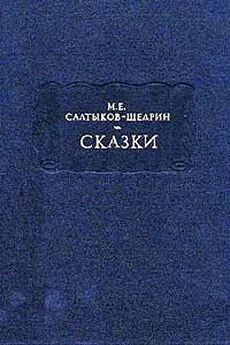Михаил Салтыков-Щедрин - Статьи. Журнальная полемика
- Название:Статьи. Журнальная полемика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Салтыков-Щедрин - Статьи. Журнальная полемика краткое содержание
Самое полное и прекрасно изданное собрание сочинений Михаила Ефграфовича Салтыкова — Щедрина, гениального художника и мыслителя, блестящего публициста и литературного критика, талантливого журналиста, одного из самых ярких деятелей русского освободительного движения.
Его дар — явление редчайшее. трудно представить себе классическую русскую литературу без Салтыкова — Щедрина.
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова — Щедрина, осуществляется с учетом новейших достижений щедриноведения.
Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В девятый том вошли статьи, рецензии, некрологические заметки.
Статьи. Журнальная полемика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Среди произведений выставки в центре внимания оказалась прежде всего картина H. H. Ге «Петр I, допрашивающий царевича Алексея Петровича в Петергофе». «Первое место <���…> бесспорно принадлежит картине г. Ге», писала газета «Голос» (1871, № 332, от 1 декабря), подчеркивая ее отличие от традиционных академических полотен на исторические сюжеты.
Живое обсуждение картины в печати вышло за рамки разбора художественных ее достоинств. Это объяснялось также и тем, что Россия готовилась к празднованию в 1872 г. двухсотлетнего юбилея со дня рождения Петра I. Передовая демократическая мысль, жаждущая приобщения России к европейским формам жизни, видела в Петре своего предшественника. Сцена допроса Петром своего наследника воспринималась не просто как событие далекого прошлого и не как частный конфликт между отцом и сыном, а как борьба двух начал, борьба двух поколений. Перед нами» в одной исторической рамке вырисовываются два типа людей, людей двух различных поколений: новое, мыслящее и идущее вперед поколение в лице Петра I; старое, немощное, недужное — в лице сына» («Дело», 1871, № 12. «На своих ногах». Подпись: Художник-любитель).
Однако в оценке картины среди публицистов демократического лагеря не было полного согласия. Наиболее критическую оценку картине дал автор только что цитированной статьи в журнале «Дело». Он считал, что образ Петра неправильно истолкован Ге, который лишил личность царя присущей ему исторической значительности. «Перед вами… свирепый по темпераменту и недалекий по развитию маленький самодур из исправников или частных приставов». Поэтому, по мнению автора статьи, симпатия зрителя оказывается целиком на стороне царевича, который выглядит «как жертва бессмысленного террора». Отсюда он делает вывод, что произведение Ге «писано… художником славянофилом, завзятым врагом Петровской реформы и защитником старорусских ретроградных принципов».
Многое, хотя и с иных позиций, не принял в картине Ге и Стасов. Критику импонировал драматизм изображенного события, в котором скрестилась в лице Петра и Алексея борьба двух начал русской жизни. Вместе с тем Стасов хотел, чтобы в облике преобразователя содержалось и критическое начало — обличение произвола. «С чем мы не можем согласиться в этой картине, — писал Стасов, — это — самый взгляд художника на его сюжет, на его задачу». То, что Петр I был великой гениальной личностью, нисколько не оправдывает его варварского деспотизма, тем более жестокого, что Алексей от природы был «ничтожный, ограниченный человек <���…> не понимавший великих зачинаний своего отца». В трактовке исторической драмы в картине Ге Стасову почудилась неясность мысли художника, который, видимо, невольно желая «оправдать» поступок Петра, тем самым отступил от правды в изображении его характера. В действительности, пишет он, нрав Петра «был жесток, значит, на допросе сына он был либо формален и равнодушен, либо гневен и грозен до бешенства. Средняя же нота, приданная ему живописцем, вовсе не соответствует его натуре и характеру».
Среди картин выставки Салтыков также концентрирует свое внимание на историческом полотне H. H. Ге. Писатель высоко ценил этого художника и питал к нему личную симпатию. Дважды пришлось ему обсуждать произведения живописи, и оба раза предметом пристального его разбора были картины Ге (см. толкование картины Ге «Тайная вечеря» в ноябрьской хронике «Нашей общественной жизни» за 1863 г., т. 6 наст. изд., стр. 148–154). В искусстве этого художника Салтыкова привлекала глубина и общественная значительность содержания, реалистическое мастерство. Работы Ге давали писателю материал для размышлений о задачах и смысле подлинно реалистического искусства.
В своей статье, писавшейся, очевидно, по свежим следам цитированных выше откликов, Салтыков воспользовался обсуждением картины, чтобы развить свое принципиальное понимание эпохи Петра, исторического значения его реформ, самой его личности.
Обращаясь непосредственно к анализу картины, Салтыков решительно противопоставляет свою точку зрения как обвинениям Ге в славянофильской трактовке его сюжета и примитивному толкованию образа Петра публицистом «Дела», так и прямолинейно-схематическому подходу к раскрытию содержания картины. И здесь острие полемики направлено против статьи Стасова.
Салтыков предъявляет к реалистическому искусству более глубокие требования, нежели внешне иллюстративное сближение исторической темы с современностью. «В том-то и состоит тайна искусства, — пишет он, — чтобы драма была ясна сама по себе, чтобы она в самой себе находила достаточное содержание, независимо от внешних ухищрений художника, от опрокинутых столов, сломанных стульев, разбросанных бумаг и т. д.». В этой фразе содержится и очевидный намек на требование Стасова видеть Петра «гневным и грозным до бешенства». И Салтыков уточняет свое несогласие: Петр Великий «не потрясает руками, не сверкает глазами», «даже ни один мускул его лица не сведен судорогой». Но для Салтыкова это не только умение художника «в меру» пользоваться художественными эффектами. Он видит здесь зоркость мастера, сумевшего проникнуть в глубь исторического конфликта: Петр Великий «страстно предан своей стране, но в этой преданности первое место занимает не страстный темперамент, а сознательность, доведенная до страстности». «Воспроизводимое лицо лишь настолько привлекательно, насколько оно человечно, то есть насколько оно доступно всему разнообразию человеческих ощущений».
Вот почему для Салтыкова неприемлемо требование Стасова представить Петра — деспотом, а Алексея — жертвой. Он раскрывает характер царевича, чтобы показать, что в данный момент трагедии не Алексей, обуреваемый тревогами «низменного свойства», а Петр — наиболее трагическая фигура. «Во взоре его не видно ни ненависти, ни презрения, ни даже гнева <���…> только мучительное чувство, где всего скорее можно видеть скорбь о себе, о поднятом, но неоконченном подвиге жизни, о том, что достаточно одной злополучной минуты, чтобы этот подвиг разлетелся в прах». Не «деспотизм» Петра надо было обличать художнику, как того желал Стасов, но предвидеть в мучительном внутреннем конфликте реформатора и отца, дело которого предал сын, источник «той светящейся красоты, которую дает человеку только несомненно прекрасный внутренний его мир».
С той же мерою «художественной правды», которая «должна говорить сама за себя, а не с помощью комментариев и требований», подходит Салтыков и к другим картинам выставки, в частности, к полотну Перова «Охотники на привале», которому, по мнению писателя, «вредит известная доля преднамеренности». И здесь, отвергая пользование приемами внешней тенденциозности, Салтыков вновь разошелся со Стасовым. Последний был в восторге от фигуры крестьянина, недоверчиво усмехающегося рассказам охотника. Для Салтыкова это — «какой-то актер», «которому роль предписывает говорить в сторону: вот это лгун, а это легковерный…», отчего и вся картина в целом «производит впечатление не вполне доброкачественное».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: